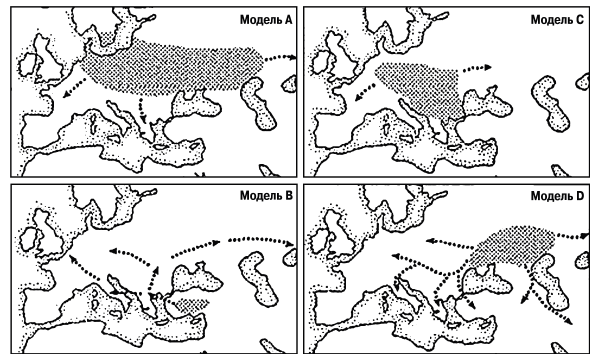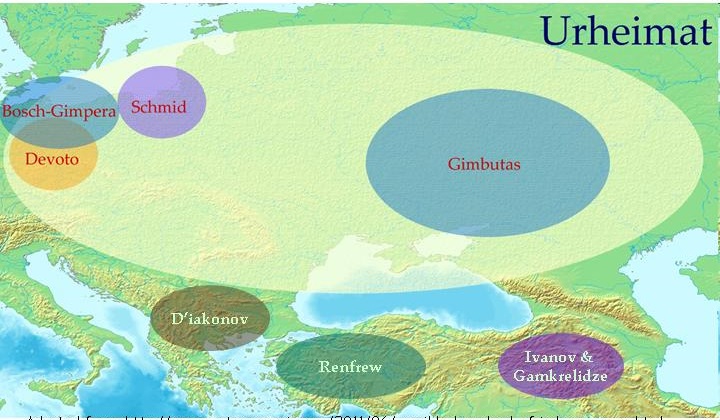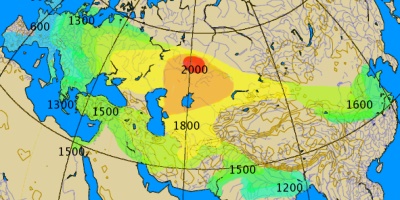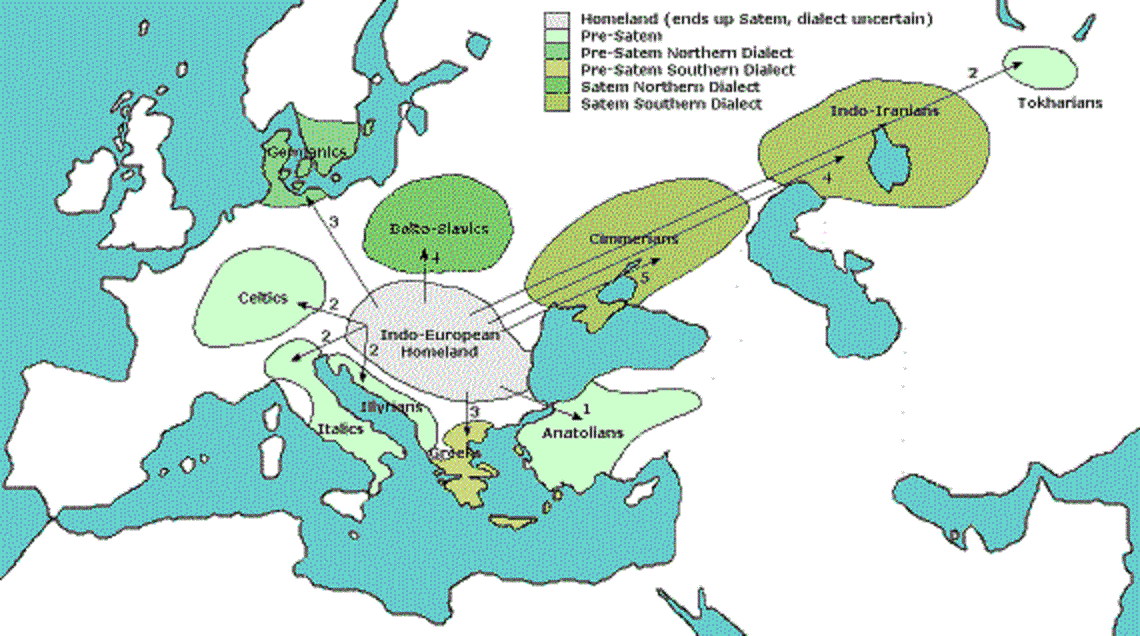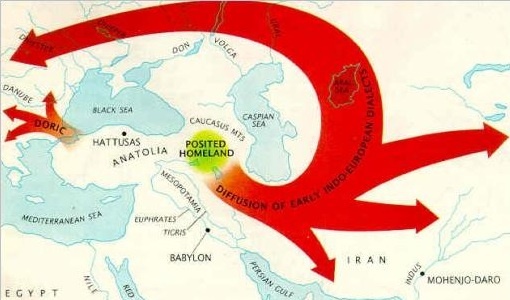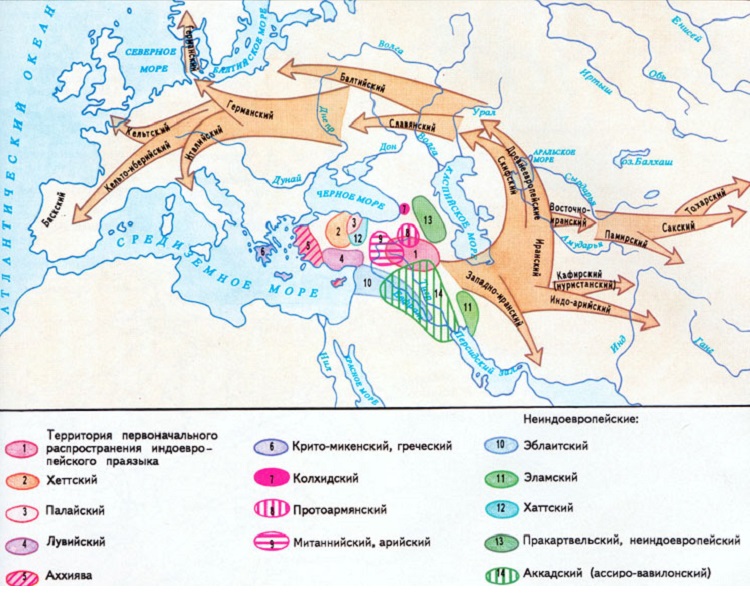пїњ
–Т–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–µ –Њ—З–∞–≥–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ - —Б–∞–є—В –Ш–≥–Њ—А—П –У–∞—А—И–Є–љ–∞
–Т–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–µ –Њ—З–∞–≥–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
пїњ
–Ы–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є.-–µ. –≤–µ—В–≤–µ–є:
–Р–ї–±. | –Р–љ–∞—В. | –Р—А–Є–є—Б–Ї. | –Р—А–Љ.-—Д—А. |
–С–∞–ї—В. |
–У–µ—А–Љ. | –У—А.-–Љ–∞–Ї. |
–Ш–ї–ї.-–≤–µ–љ. | –Ш—В–∞–ї. | –Ъ–µ–ї—М—В. |
–°–ї–∞–≤. |
–Ґ–Њ—Е. |
–°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й—С–љ–љ–∞—П —В.–љ. "–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ ", —В.–µ., –њ–Њ–Є—Б–Ї—Г –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є
–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ ,
—З–ї–µ–љ–µ–љ–Є—О —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ—А–∞–Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Є –њ—Г—В—П–Љ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ.
–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –њ–Њ —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ–µ.
–Э–∞ –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ–Њ–є —Б–ї–µ–≤–∞ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—С–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л .
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Н—В–∞–њ–∞–Љ–Є.
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –љ–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є A –Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –Є–Ј –ї—О–±–Њ–є –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є (B-D).
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г "–њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г" –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Њ—З–∞–≥ –Є—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є - –Є —Н—В–Є—Е –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ.
–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–і–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–∞ –њ—А–µ–і—Л–і—Г—Й–µ–є "–њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ" –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞—В—М—Б—П —З–∞—Б—В—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤,
—Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—Б—М –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–Њ–Љ –і–ї—П —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –≤–Њ–ї–љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤-–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤.
–Т —В.—З. –≤ —Б–∞–Љ–Є—Е —Н—В–Є—Е "–Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї—П—Е" –Є –Њ—З–∞–≥–∞—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –Љ–Њ–≥–ї–Є —З–µ—А–µ—Б–њ–Њ–ї–Њ—Б–љ–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Н—В–љ–Њ—Б–∞–Љ–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —В–∞–Ї–ґ–µ –Љ–Є–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ–Є.
A: —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М [C+D –±–µ–Ј –С–∞–ї–Ї–∞–љ];
B: —О–ґ–љ–Њ-–∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –†–µ–љ—Д—А—О;
–Я–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–Є–Љ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—З–∞–≥–Є –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б —Б–µ–≤–µ—А–∞ –љ–∞ —О–≥
(–Є —Г–Ї–∞–ґ–µ–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –љ–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ –≤—Л—И–µ).
–Ѓ–ґ–љ–Њ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞")
- –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї–Є–є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –Ь–Њ–і–µ–ї–Є A –Є–ї–Є D ;–С–∞–ї—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("–ї–Њ—Б–Њ—Б–µ–≤–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞") -
–њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Ь–Њ–і–µ–ї—М A [–±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В - –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П ];–Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ - –Ј–∞–њ–∞–і–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ь–Њ–і–µ–ї–Є D
[–±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ - –њ–Њ–љ—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П - —Б–∞–Љ–∞ –Ь–Њ–і–µ–ї—М D ];–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("—Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А") - —Г–Ј–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ь–Њ–і–µ–ї–Є C
;–Ь–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є/–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ - –Ь–Њ–і–µ–ї—М B.
–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є–Љ, –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ-–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є (–Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ, –Р—Д–≥–∞–љ–Є—Б—В–∞–љ, –Ч–∞–≥—А–Њ—Б) –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є (–£–є–≥—Г—А–Є—П, –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—П) –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є.
–Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ —Н—В–Є "–њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л" –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є , –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ -
–Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –≤—Л—И–µ (–Є–ї–Є –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В ):
1) –Ѓ–ґ–љ—Л–є –£—А–∞–ї вЮЬ
2ab) —А–µ–≥–Є–Њ–љ –Њ—В –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є—П [—З—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Є —О–ґ–љ—Г—О –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О - –і–Њ –Ъ–Њ—А–µ–Є] вЮЬ
3) –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ [–љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Њ—В –Ъ–∞—Б–њ–Є—П] вЮЬ
4) [–°–µ–≤–µ—А–љ—Л–µ?] –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л -> [–љ–∞ —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і –Њ—В –Я–Њ–љ—В–∞] вЮЬ
5) –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П [–љ–∞ —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Є–ї–Є –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї].
–≠—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Н—В–љ–Њ–і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –µ–≤—А–Њ-–∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞,
–≥–і–µ —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ч–∞–≤–Њ–ї–ґ—М—П –≤ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ (—Б—А—Г–±–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Є–Љ–Љ–µ—А–Є–є—Ж—Л, —Б–Ї–Є—Д—Л, —Б–∞—А–Љ–∞—В—Л, –≥—Г–љ–љ—Л, —В—О—А–Ї–Є, –≤–µ–љ–≥—А—Л, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л),
–Є–Ј –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л (—П–Љ–љ–Є–Ї–Є?, –≤–µ–љ–≥—А—Л),
—Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ –≤ –Ь–∞–ї—Г—О –Р–Ј–Є—О (–ї—Г–≤–Є–є—Ж—Л?, –≥—А–µ–Ї–Є, —Д—А–∞–Ї–Є–є—Ж—Л, —Д—А–Є–≥–Є–є—Ж—Л, –Ї–µ–ї—М—В—Л, –Љ–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Ж—Л).
–Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —З–Є—Б—В–Њ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–∞ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б–Љ–µ–љ—Л –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ –Њ—В –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є (–Љ–Њ–і–µ–ї—М B )
–Ї –Ѓ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –£—А–∞–ї—Г —З–µ—А–µ–Ј –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ, –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М–µ.
–Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є-–Њ—З–∞–≥–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—В –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–є –∞—А–µ–∞–ї -
—В–∞–Ї –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М —В–µ–Њ—А–Є—П –Њ –¶–Є—А–Ї—Г–Љ–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є - –µ–і–Є–љ–Њ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –І—С—А–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П,
–≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–є –≤ —Б–µ–±—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є (B), –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є (C) –Є –Я–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є (D) –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–љ—В—А—Л –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤.
[–•–Њ—В—П, –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В—М –≤—Б–µ —О–ґ–љ—Л–µ –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є –≤ –¶–Є—А–Ї—Г–Љ–њ–Њ–љ—В–Њ–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М
—В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Г—О –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞—Б—Б–Є—В–Њ–≤ –Є –≥—Г—В–Є–µ–≤ .]
–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Ь–Њ–і–µ–ї–Є B - —В–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞–Љ –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –¶–Є—А–Ї—Г–Љ–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –Є, –≤–≤–Є–і—Г —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ—Б—В–Є,
—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —В–Њ–ґ–µ —Б—В–Њ—Б—В–Њ–Є—В, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Є–Ј 2 –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ - —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ
–Є —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ .
–Т —Ж–µ–љ—В—А–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –Ъ–∞—А–њ–∞—В—Л - –Њ–љ–Є —В–Њ–ґ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Њ—З–∞–≥–Њ–≤, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–µ—А–≤–Є—З–љ—Л–Љ.
–Я—А–Є—З—С–Љ, —Н—В–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –≤—Е–Њ–і–Є—В –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Г—О –Ј–Њ–љ—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤—Г
(–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –∞—А–µ–∞–ї–Њ–≤ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ).
–І—В–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –≤ —Н—В–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї—П—Е –љ–µ —Д–Є–≥—Г—А–Є—А—Г—О—В –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –њ–Њ—Б–ї–µ
–Њ–і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П –ї–Њ—И–∞–і–Є
(–∞ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ VII-VII —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П—Е –і–Њ –љ.—Н. –і–µ-—В–Њ –≤ –њ–Њ–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ - –Њ—В –Ѓ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –£—А–∞–ї–∞ –і–Њ –Ф–∞–≥–µ—Б—В–∞–љ–∞ –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –≤ –Р–Ј–µ—А–±–∞–є–і–ґ–∞–љ–µ).
–°–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –і–∞–ґ–µ –µ—Й–µ –њ–Њ–Ј–ґ–µ - –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї—С—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї (III —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є–µ –і–Њ –љ.—Н.).
–Я—А–Њ—В–Є–≤ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –Љ–∞–ї–Њ–Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–є–Њ–љ - —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ґ—Г—А–Ї–Љ–µ–љ–Є—П, –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –њ–Њ–Ї—А—Л—В–∞—П –њ–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є –Ъ–∞—А–∞–Ї—Г–Љ–Њ–≤.
–Ъ–∞–Ї–∞—П —Д–ї–Њ—А–∞ –Є —Д–∞—Г–љ–∞ —В–∞–Љ –±—Л–ї–∞ - —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –ґ–µ? –Р, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, —В–∞–Љ –±—Л–ї –Њ—З–∞–≥ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞?
–І—С—В–Ї—Г—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е (—З–µ—В—Л—А—С—Е) –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤ .
–Я–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О (–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ –≤—Л–≤–Њ–і–∞—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і–Њ–≤), –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е —В–∞–Ї–Њ–≤–∞:
–Ї–∞—А–њ–∞—В–Њ-–њ–Њ–ї–µ—Б—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Ж–µ–≤ [–∞–љ–і—А–µ–µ–≤—Б–Ї–Є—Е "–±–Њ—А–µ–∞–ї—М—Ж–µ–≤ " - –Є–љ–і–Њ-—Г—А–∞–ї–Њ-–∞–ї—В–∞–є—Ж–µ–≤?] –Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В вАФ
—Б–≤–Є–і–µ—А—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ IX —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –і–Њ –љ. —Н.;
–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-—Б—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П-–Љ–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ —А–∞–љ–љ–Є—Е –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В вАФ –С–µ–є–і–∞, –Ш–µ—А–Є—Е–Њ–љ –С, –І–∞—В–∞–ї-–У—Г—О–Ї вАФ VIIIвАФVI —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.;
–±–∞–ї–Ї–∞–љ–Њ-–і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ вАФ
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Т–Є–љ—З–∞ , –Ї–Њ–љ–µ—Ж VвАФIV/III —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.;
–њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ вАФ
–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Ы–µ–љ–і—М–µ–ї –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤ вАФ –Р–Т, IV –Є IV/III —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.
–°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Т.–Р.–°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –љ–∞ –≤—Л–≤–Њ–і–∞—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–µ–і–Њ–≤, –љ–Њ, –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ,
—Б–∞–Љ—Л–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ –Ј–і–µ—Б—М —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–≤—П–Ј–Ї–∞ –Ї –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ –Є –≤—Л—В–µ–Ї–∞—О—Й–∞—П –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П .
–Ъ–∞–Ї —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–њ—Л—В–∞—В—М—Б—П –Є –њ—А–Є–≤–µ–і—С–љ–љ—Л–є —А–∞–љ–µ–µ —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј 5 –Њ—З–∞–≥–Њ–≤ –њ—А–Є—П–≤—П–Ј–∞—В—М –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—С–љ–љ—Л–Љ
–≤–µ—А—Е–љ–µ–њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ ,
–Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ
–Є –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ.
–Я–Њ–Ї–∞ –ґ–µ –≤ –Є—В–Њ–≥–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —А–∞–љ–љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є –Љ–Є—А –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Б—Г–±—А–µ–≥–Є–Њ–љ—Л,
—А–∞–Ј–±—А–Њ—Б–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Њ—В –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є, –∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б—В–µ–њ–љ—Л–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л;
–≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Њ–љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М, –Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –µ–і–Є–љ—Г—О ¬Ђ—В–µ–Њ—А–Є—О –њ–Њ–ї—П¬ї, –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ, —В–∞–Ї –ґ–µ –і–∞–ї–µ–Ї–∞ –Њ—В
–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –≤ —Д–Є–Ј–Є–Ї–µ .
–†–∞–Ј–і–µ–ї—Л —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Њ–± –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞—Е :
–Ѓ–ґ–љ–Њ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞")
–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("—Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А")
–Ь–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є/–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–°–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤
–Т–Њ–ї–љ—Л –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤-–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П–Љ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –Њ —А–∞—Б–њ–∞–і–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –µ—С –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є
–Ю–±–Ј–Њ—А—Л –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Є–Ј –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј –≤–Ј—П—В—Л –≤ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –Є–Ј —А–∞–±–Њ—В—Л –Ф–ґ. –Я. –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є –Ш–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л
(–Т–µ—Б—В–љ–Є–Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. - –Ь., 1997. - вДЦ 1. - –°. 61-82).
–Ѓ–ґ–љ–Њ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –Є–ї–Є –Ј–∞–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞")
–Ъ–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –Є–љ–і–Њ-—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –Є–љ–і–Њ-—Н—Б–Ї–Є–Љ–Њ—Б—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.
–Э–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є —Н—В–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М "–Є–љ–і–Њ-—В–Њ—Е–∞—А–∞–Љ–Є".
–Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —Б —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –Ї–Њ–љ–µ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ , –∞ –Є—Е –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ—Л—Е –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Њ–Ї
[—З—В–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–µ –љ–µ –≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ, –∞ –і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ, –Є–±–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М –Љ–∞—Б–Њ–≤—Л–µ –Є –±—Л—Б—В—А—Л–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Ж–µ–ї—Л—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ, –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –љ–∞–±–µ–≥–Є],
–њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –Ј–∞—Г—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В–µ–њ—П—Е, —В–Њ —О–ґ–љ–Њ—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ .
–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л
–Т—А–µ–Љ—П: –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В.
–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ (–Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ–Љ–∞—П –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Љ–Њ–і–µ–ї—М 1¬ї) –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –і–≤–∞ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П
–Є/–Є–ї–Є –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е, –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А—Г–µ–Љ–∞—П —Б —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М—О, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є.
–°–µ–≤–µ—А–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П —З–∞—Б—В—М —Н—В–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–і–µ—В
–Њ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л TRB –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –∞–Љ—Д–Њ—А –Є —И–љ—Г—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞
–Ї –≥—А—Г–њ–њ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ - –£–љ–µ—В–Є—З–µ вЮ© –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Е–Њ–ї–Љ–Њ–≤ вЮ© –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –њ–Њ–ї–µ–є –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—А–љ.
–≠—В–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–є –∞—А–µ–∞–ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В—А–∞–ґ–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є
–Ї–µ–ї—М—В–Њ–≤, –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤, –±–∞–ї—В–Њ–≤ –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—В–∞–ї–Є–є—Ж–µ–≤ –Є –Є–ї–ї–Є—А–Є–є—Ж–µ–≤.
–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Н—В–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —Б—В–µ–њ–љ—Л–µ –Є –ї–µ—Б–Њ—Б—В–µ–њ–љ—Л–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞,
—В.–µ. –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –°—А–µ–і–љ–Є–є –°—В–Њ–≥-–•–≤–∞–ї—Л–љ—Б–Ї-–С–Њ—В–∞–є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —П–Љ–љ—Г—О, –Ї–∞—В–∞–Ї–Њ–Љ–±–љ—Г—О/–њ–Њ–ї—В–∞–≤–Ї–Є–љ—Б–Ї—Г—О
–Є –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л - —Б—А—Г–±–љ—Г—О –Є –∞–љ–і—А–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є —З–µ—А–µ–Ј –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Р–Ј–Є—О –Є –і–∞–ї—М—И–µ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї.
–†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –њ—А–Є —Г—З–∞—Б—В–Є–Є –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Д—А–∞–Ї–Є–є—Ж–µ–≤, –і–∞–Ї–Њ–≤, —В–Њ—Е–∞—А,
–∞ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є –≤ –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г/–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О
–≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є —А–∞–љ–љ–µ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л, —В–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Є –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Ж–µ–≤, —Д—А–Є–≥–Є–є—Ж–µ–≤, –∞—А–Љ—П–љ –Є –≥—А–µ–Ї–Њ–≤.
–≠—В–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л —Г–і–Њ–±–љ–∞ –і–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є–ї–Є —А–∞–љ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л
–Љ–µ–ґ–і—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Є —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —Б–µ–Љ—М—П–Љ–Є.
–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л:
–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П —Б –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В—А—Г–і–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Г –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Њ—В –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П –і–Њ –І–µ—А–љ–Њ–≥–Њ (–Є–ї–Є –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ)
–Љ–Њ–≥–ї–∞ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–±—Й–∞—П –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є, –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е,
–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞/—А–∞–љ–љ–µ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л, —В–∞–Ї–Є—Е, –Ї–∞–Ї –і–ї—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞.
–Э–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ –Є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н—В–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ (–љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ—В—А–∞–Ј–Є–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ –Є—Е –Њ–±–ї–Є–Ї–µ) —Б–њ—Г—Б—В—П —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П.
–У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є,
—Е–Њ—В—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–љ–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–µ –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ.
–Ь–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –љ–µ –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б–Њ —Б—Е–µ–Љ–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ–∞,
—В.–µ. –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г —Ж–µ–љ—В—А–Њ–±–µ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞,
–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Г–і–µ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є.
–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —Г–і–Њ–±–љ–∞ –і–ї—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Р–Ј–Є–Є,
–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б —В–µ—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є, –≥–і–µ –Њ–љ–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ –С–∞–ї–Ї–∞–љ, –У—А–µ—Ж–Є–Є –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —В—А–µ–±—Г—О—В –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–∞.
–° —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Њ–Љ –Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ
–Є–Ј –і–≤—Г—Е –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –∞—А–µ–∞–ї–Њ–≤ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Г–ґ–µ —Б —Н–њ–Њ—Е–Є –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–∞.
–Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞
–Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.
–Э–µ—В —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –Ј–Њ–љ—Л –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –≤ —Н—В–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ, –Њ —Б—Е–Њ–і–љ–Њ–Љ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —В–Є–њ–µ –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ь–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ 2/3 —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤
–≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–ї–Њ–Љ–Ї–Є –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 1), —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ—В–њ–∞–ї–∞ –±—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М
–і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Н–ї–Є—В—Л —З–µ—А–µ–Ј –і–љ–µ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г,
–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –±—Л –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л.
–Э–Њ –µ—Б—В—М –ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–Ї—А–Њ–Љ–µ –∞–Ї—В–∞ –Ї–∞—А—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ–і–∞ –±—Г–і–µ—В...¬ї), –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–µ –Њ–±–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї—А—Г–ґ–Ї–Њ–Љ
—А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Њ—В –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П –Є–ї–Є –Я—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є—П –Є –Ј–∞—П–≤–ї—П—В—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Њ–љ–Є - –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ?
–Т–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–±—Й–Є–µ –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Є–ї–Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –Є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–Є–њ–Њ–≤;
–њ—А–µ—Б–ї–Њ–≤—Г—В—Л–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—В–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б –і–љ–µ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–Љ.
–†–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–ї—П –њ—А–Є–і–∞–љ–Є—П –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–µ
–љ–∞–і–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З–µ–Љ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є
–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ.
–Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –њ—А–µ—В–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Є –і–ї—П –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј, –Њ–±–Њ–є—В–Є –µ–≥–Њ –±—Г–і–µ—В —В—А—Г–і–љ–Њ.
–Э–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є
–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –≥–ї—Г–±–Є–љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Б–і–≤–Є–љ—Г—В–∞ –Ї –љ–µ–Њ–ї–Є—В—Г, —З—В–Њ —Б–љ—П–ї–Њ –±—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ—Г–љ–Ї—В–∞.
–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –Є —Б—В–µ–њ–љ–∞—П –Ј–Њ–љ–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є
(—Н—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є), —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –Є—Е –Њ–±—Й–µ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ.
–Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–∞ –љ–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В –≤–ї–µ—З–µ—В –Ј–∞ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ—З—В–Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є —А–µ—И–∞–µ—В.
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —В—А—Г–і–љ–Њ –Њ—В–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞—З–∞–ї–Њ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –љ–∞ –Ф—Г–љ–∞–µ –Њ—В –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л,
–∞ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ - —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є.
–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л (–њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–Љ—Г –њ–µ—А–Є–Њ–і—Г) –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –і–∞–љ–љ—Г—О –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –≤ –і—А—Г–≥—Г—О.
–Э–µ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ —Б–і–≤–Є–љ—Г—В—М —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Ї –љ–µ–Њ–ї–Є—В—Г –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ
(—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л) —В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞, —З—В–Њ —Б—В–µ–њ–љ–∞—П –Ј–Њ–љ–∞ –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞
–Є —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Ї—А–∞–є–љ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–∞ —В–µ—Б–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є
–Љ–µ–ґ–і—Г –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–Њ–є (–Є–ї–Є –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞–Љ–Є) –Є —Б—В–µ–њ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–є–Њ–љ–∞–Љ–Є, –љ–Є –і–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –љ–Є –і–ї—П –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞.
–Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–Ъ–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –Є–љ–і–Њ-—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.
–£—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ - "–њ—А–Њ—В–Њ–∞—А–Є–Є".
–Т—А–µ–Љ—П: —Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 4500-3000 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н. [62].
–У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ —А–∞–љ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–Љ–Є —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є, –∞ –љ–µ –Њ—Б–µ–і–ї—Л–Љ–Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є.
–Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В —В–µ—Е, –Ї—В–Њ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —В–µ—Б–љ—Л–µ –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є
—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ.
–Т —Б—В–µ–њ—П—Е –Є –ї–µ—Б–Њ—Б—В–µ–њ—П—Е –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї —Б—Д–µ—А—Л –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –µ–і–Є–љ–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є.
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –≤ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є - –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л –Є –≤ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ - –≤ –Ъ–∞–Ј–∞—Е—Б—В–∞–љ.
–°—В–Є–Љ—Г–ї–Њ–Љ –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—В–∞—В—М –Њ—З–µ–љ—М –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—П –њ—А–Є –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є,
—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –∞—Б—Б–Є–Љ–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М —Б–µ–±–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Н—В–љ–Њ—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л.
–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞:
–Ф–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л —Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ, —В.–µ. V-IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н., –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –љ–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞,
–і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ–Љ–Њ–є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –љ–Є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А,
—В–µ—А–Љ–Є–љ–∞–Љ –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞, –ї–Њ—И–∞–і–Є –Є –Ї–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є, –≤—В–Њ—А–Є—З–љ—Л—Е –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –Є —В.–і.
–Ф–∞–љ–љ—Л–є –∞—А–µ–∞–ї, –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞, –≤ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П
–љ–µ –±—Л–ї –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —В—Г–і–∞ –≤—В–Њ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞.
–¶–µ–љ—В—А–Њ–±–µ–ґ–љ—Л–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—В—Б—П
—Б –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Њ–≤ [63].
–Ф–∞–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О (–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П) –≤—Б–µ—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, —В–∞–Ї –Є –≤ –Р–Ј–Є–Є,
—В.–µ. –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є ¬Ђ–њ—А–Њ–±–µ–ї¬ї (–Ф–љ–µ—Б—В—А-–Ф–љ–µ–њ—А).
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –Њ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і - –і–Њ —А. –Ґ–Є—Б—Л –Є –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л.
–Т—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Є–ї–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Њ–Љ, –≥–µ—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ, –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ,
—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –∞—А–µ–∞–ї–∞—Е, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ—Л –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤ –Њ–±—Й—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г
–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З–∞—Б—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –≤ —А–∞—Б—З–µ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є, –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞,
–Њ–±–Њ—А–Њ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л, –Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є, –±–Њ–µ–≤—Л—Е —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤, –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є–є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е –Є —В.–і.
–Ґ–∞–Ї –ґ–µ –љ–µ–љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —О–≥, –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О.
–С–Њ–ї–µ–µ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В –і–∞–љ–љ—Л–µ –Њ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П—Е –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і–Њ–≤ –≤ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є
–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ –∞—А–µ–∞–ї —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤
–≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Ж–µ–≤ –Є –Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤ (–љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ш—А–∞–љ–∞).
–Т—Л–≤–Њ–і—Л.
–°—А–∞–Ј—Г –љ–∞–і–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –Є—Б–Ї—Г—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–є.
–Ю–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П —А–∞–Љ–Ї–Є –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ—З–µ—А–Ї–∞, —А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–∞ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –≤—Б–µ –љ–µ–∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л
(–Ї–∞–Ї –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–є–љ—Л–µ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –љ–µ–є) –Є —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л.
–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —Б—В–∞—В—М–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –љ–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В –Њ–і–љ—Г –Њ–±—Й—Г—О –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –У. –Я–Є–Ї –Є –У. –§–ї–µ—А, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ,
–Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ —Г–њ—А–Њ—Й–∞—П –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г, –љ–Њ —В–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ—В–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О ¬Ђ—Б—В–µ–њ—М - –њ–∞—И–љ—П¬ї.
–≠—В–∞ –і–Є—Е–Њ—В–Њ–Љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Ї—А–∞–є–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А
–љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –Њ—З–µ–љ—М –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–ї—П –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є –і–ї—П —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є,
–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Л –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–∞ –Њ–±–∞ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Њ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П —Б –Њ–і–љ–Њ–є
–Є —В–Њ–є –ґ–µ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є, –і–∞–≤—И–µ–є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.
–Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є ¬Ђ–≤–Њ–і–Њ—А–∞–Ј–і–µ–ї¬ї –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –≥–і–µ-—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ф–љ–µ—Б—В—А–Њ–Љ –Є –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–Љ, –Є –µ–≥–Њ –љ–∞–і–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М.
–Ф–≤–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л - –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 2) –Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П/–±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 3) –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ —Б –Ј–∞–њ–∞–і–∞,
–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 4) - —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞,
–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є –±–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л (–Љ–Њ–і–µ–ї—М 1), –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є—П–Љ–Є –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А,
—Б–і–≤–Є–≥–∞—О—В —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –≤ –Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В.
–Х—Б–ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –≤ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ, —В–Њ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М
–±—Г–і–µ—В –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–є ¬Ђ–њ—А–Њ—А—Л–≤¬ї –і–љ–µ—Б—В—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—А—М–µ—А–∞.
–≠—В–Њ—В ¬Ђ–њ—А–Њ—А—Л–≤¬ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 4000 –≥. –і–Њ –љ.—Н., –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–≤–љ–Њ —Г—И–ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–µ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П,
–Ї–Њ–≥–і–∞ —Н—В–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є —П–Љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і, —В.–µ. —Б —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ III - –љ–∞—З–∞–ї–∞ II —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.
–Ґ—А—Г–і–љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л: –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –≤—Б–µ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
–Э–∞–і–µ–ґ–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —А. –Ґ–Є—Б—Л; –Ј–∞ –љ–µ–є –≤—Б—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ¬ї
–≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є –Є –љ–µ—Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є.
–°–∞–Љ–Њ–µ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ, –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—Й–µ–Љ —Б—В–µ–њ–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П.
–Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є.
–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.
–°–∞–Љ—Л–є –љ–∞–≥–ї—П–і–љ—Л–є –њ—А–Є–Љ–µ—А - –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–∞—А–Љ–∞—В—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞,
–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—О –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –Ї –Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є
–Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, –Ї –Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ.
–Х—Б–ї–Є –Ф. –Р–љ—В–Њ–љ–Є –њ—А–∞–≤, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Њ—И–∞–і–µ–є –і–ї—П –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Њ–Љ –і–ї—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є,
–љ–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Є–Љ–µ—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П, —В–Њ –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П ¬Ђ–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П¬ї –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞
–µ–і–≤–∞ –ї–Є –њ–Њ–Љ–Њ–ґ–µ—В —А–µ—И–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –С–∞–ї–Ї–∞–љ.
–Э–Њ –Њ —Б–ї–∞–±–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ,
—З—В–Њ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞.
–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ ("—Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А")
–Ъ–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –Є–љ–і–Њ-—В–Є—А—А–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –Є–љ–і–Њ-—Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.
–£—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Н—В—Г –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї—Г—О —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Г—О –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М "–Є–љ–і–Њ-—Д—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є".
–І—В–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Н—В–∞ —Б—Е–µ–Љ–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±—П –≤—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—З–∞–≥–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ (–њ–Њ —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–µ).
–Т—А–µ–Љ—П: —А–∞–љ–љ–Є–є –љ–µ–Њ–ї–Є—В, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 5000 –≥. –і–Њ –љ.—Н. [60].
–Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В —В–µ—Е –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ—Ж–∞–Љ–Є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А–∞ —В—П–ґ–µ—Б—В–Є¬ї.
–Ю–љ–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤
—Б —Г—А–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є, –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ–Љ–Њ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ–і–µ–ї—П–Љ–Є.
–° —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Н—В–Њ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ-–ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л
–Њ—В –∞—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –і–Њ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –Є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—Й–µ–є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М
(–љ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —В–∞–Ї —Б—З–Є—В–∞—О—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є) –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є.
–°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –≤ –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М–µ –Є –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В—Б—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –і–ї—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ –Ї IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.
–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞:
–Т—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞.
–Ф–∞–љ–љ–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–µ –љ–∞—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤
—Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–љ–љ–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Э–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –µ—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–∞
–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е.
–Ь–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –∞—А–µ–∞–ї–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —Б –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ—Л–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.
–°–ї–∞–±–Њ—Б—В—М —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –Р–Ј–Є–Є
–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –Њ—В –Ф–љ–µ–њ—А–∞.
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ (—Е–Њ—В—П –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ) –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є–ї–Є –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О
–Є–ї–Є –ґ–µ - —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–µ–њ—М - –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –µ—Б–ї–Є –љ–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л, —В–Њ –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤ –Є —В–Њ—Е–∞—А.
–°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ —Г —Н—В–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –µ—Б—В—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤, –Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤—Л–±—А–∞—В—М –Љ–Њ–і–µ–ї—М,
–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є,
–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л,
—Е–Њ—В—П –Є –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї–∞ —Б –Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –Є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є.
–Ь–∞–ї–Њ–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–∞—П –Є/–Є–ї–Є –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–Ъ–Њ—А—А–µ–ї–Є—А—Г–µ—В —Б –Є–љ–і–Њ-—В–Є—А—А–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–ї–Є –Є–љ–і–Њ-–Ї–∞—А—В–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.
–£—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ - "–Є–љ–і–Њ-—Е–µ—В—В—Л".
–Т—А–µ–Љ—П: —А–∞–љ–љ–Є–є –љ–µ–Њ–ї–Є—В, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7000-6000 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н. [51].
–≠—В–∞ —В–µ–Њ—А–Є—П –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П ¬Ђ–њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л¬ї,
–±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є–Ј –∞—А–µ–∞–ї–∞ (–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є),
–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Б —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л.
–Ь–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ —Н—В–Є—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б—П—В —Б —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ї–ї–∞–і–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є—Е —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е.
–≠—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї —А–Њ—Б—В—Г —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П.
–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–∞ –Љ–∞—Б—Б—Л –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Г—Б—В—А–µ–Љ–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Є –Р–Ј–Є—О,
–њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ–Є–≥—А–∞–љ—В—Л-–Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—М—Ж—Л –±—Л–ї–Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В,
–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –Є–Љ –∞—Б—Б–Є–Љ–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—Е–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤-—Б–Њ–±–Є—А–∞—В–µ–ї–µ–є.
–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –љ–∞—А–Њ–і—Л –С–∞–ї–Ї–∞–љ (–Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М—П) –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є, –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞
–Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А, —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ.
–Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ–Њ —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –≤–љ–µ—И–љ–Є—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є —Б —Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Њ–є –Є –Ї–∞—А—В–≤–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є.
–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞:
–Ф–∞–љ–љ–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –Є –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А
–≤ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л.
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ –ї–Њ—И–∞–і—М , –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –њ–Њ—З—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤
(–Њ—В –Ш—А–ї–∞–љ–і–Є–Є –і–Њ –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞), –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –і–Њ IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.,
–∞ –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є - –і–Њ —Н–њ–Њ—Е–Є –±—А–Њ–љ–Ј—Л (–љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ
–Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Њ—Б—М –±—Л –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ –≤ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞).
–Х—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л –і–ї—П –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–≥–Њ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞ –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В—Б—П —Б—В–Њ–ї—М —А–∞–љ–љ–Є–Љ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ,
–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б—А–µ–і–Є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Є –≤ –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е.
–†–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 7000 –≥. –і–Њ –љ. —Н. –і–∞–µ—В –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ –і–∞—В—Л, —З–µ–Љ —В–µ,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—Ж–µ–љ–Њ–Ї –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞.
–°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е
–ї–Є–±–Њ –љ–∞ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П - —Е–∞—В—В–Њ–≤ , —З—М—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О –Ј–∞–љ—П–ї–Є —Е–µ—В—В—Л, –Є —Е—Г—А—А–Є—В–Њ–≤ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є.
–•–∞—В—В—Б–Ї–Є–є –Є —Е—Г—А—А–Є—В—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї–Є –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Њ—В –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–µ –і–∞—О—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М,
—З—В–Њ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ї—А—Г–≥—Г —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞.
–•–µ—В—В–Њ–ї–Њ–≥–Є, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є –Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, —Б—З–Є—В–∞—О—В —Е–µ—В—В–Њ–≤ –њ—А–Є—И–µ–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, –∞ –љ–µ –∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–∞–Љ–Є –≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є.
–° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Е—А–∞–љ—П—В –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є,
–∞ —Б –љ–µ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О—В —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г.
–Э–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ъ. –†–µ–љ—Д—А—Г , –љ–∞—А—Г—И–∞—О—В –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–µ–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤:
–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–µ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –Є–Ј–Њ–≥–ї–Њ—Б—Б–∞–Љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є;
–њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є –Є –ї–Є–љ–Є–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤—Б—В—Г–њ–∞—О—В –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–Љ,
–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —В–µ—Б–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б –Є—В–∞–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є —В.–њ.
–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –≤—В–Њ—А–Є—З–љ–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –Ѓ–≥–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,
–Ї—А–Њ–Љ–µ –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ї—Г—З—И–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –±—Л —Б–Њ —Б—Е–µ–Љ–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤.
–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г–µ—В—Б—П —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –і–ї—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–Њ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є,
–Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Ј–∞—Е–Њ–і–Є—В –Њ–± –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Р–Ј–Є–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ъ. –†–µ–љ—Д—А—Г –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ ¬Ђ–њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –Р¬ї,
–≤—Л–≤–Њ–і–Є—В –Є—Е —Б –С–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —В–Њ–Љ—Г —Д–∞–Ї—В—Г, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –µ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є¬ї
–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Њ—Б—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ
(—Н–ї–∞–Љ–Є—В—Л, —И—Г–Љ–µ—А—Л, –і—А–∞–≤–Є–і—Л ), –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ –≤—Б–µ–є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤.
¬Ђ–Я–ї–∞–љ –С¬ї –Ъ. –†–µ–љ—Д—А—Г –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ –≤ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ-–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є,
—З—В–Њ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г—О—В –і–≤–∞ –Љ–Є—А–∞, –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е,
–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–∞ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П (–µ—Б–ї–Є –ґ–µ –Њ–љ –Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї, —В–Њ –≤ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і).
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–Є —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П —Б –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П.
–≠—В–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –∞, –µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –∞–Ї–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ –Є –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –і–Њ–±–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є
—Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М —З–∞—Б—В–Њ—В 95 –≥–µ–љ–Њ–≤ —Г —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –њ—А–Є—И–µ–і—И–Є—Е –Ї –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—О –Њ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П—Е
–Є–Ј –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –Ї –Р—В–ї–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—О –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –љ–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П–Љ, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ —Б –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞.
–Ю–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В—А–∞–ґ–∞—В—М –Є —З—В–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ homo sapiens, –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–∞ ¬Ђ–∞—Д—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Х–≤—Л¬ї, —З–µ—А–µ–Ј –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Р–Ј–Є—О.
–С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –љ–∞—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—А—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П
–≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ї–∞—А—В–∞, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є,
—Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В (–њ—А–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤) –љ–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–Ј –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є –Ї –Ш–±–µ—А–Є–Є (–Є–ї–Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ)!
–Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—В—Л, –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б—Е–µ–Љ–∞–Љ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є, –Є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤—П–Ј–Є, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Л–µ –і–ї—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л,
–±—Л–ї–Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—Л —Б—В–∞—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г.
–Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Ј–∞–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Њ-–∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л
–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М (–Є –±—Л–ї–∞) –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ—В –Ї —Б–≥–ї–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–є.
–Х—Б–ї–Є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–є, –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞–Љ–Є –Є –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М–µ–Љ –Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —Н—В–Њ—В –∞—А–µ–∞–ї
–≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–Њ–љ—Л —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ —Б VII –њ–Њ IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н., —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М,
—З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–µ, –±—Л—В–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ –∞—А–µ–∞–ї–µ.
–Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –Њ–±–ї–∞—Б—В—П—Е –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є (–≥–і–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б—Г–і—П –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї—Г–і–љ—Л)
–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Є–Ј–±–µ–ґ–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–љ–љ–Є—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є, –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є,
–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Е–∞—В—В–∞–Љ–Є –Є–ї–Є —Е—Г—А—А–Є—В–∞–Љ–Є.
–≠—В–∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –љ–µ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞,
–љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Є—Е —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і - –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –±—А–Њ–љ–Ј—Л –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞.
–Ю–љ–∞ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л —Б –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤—П–Ј—П–Љ–Є.
–Ґ–∞–Ї, –Ї–µ–ї—М—В—Б–Ї–Є–є –Є –Є—В–∞–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –≤—Л–≤–Њ–і—П—В—Б—П –Є–Ј –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М—П, –∞ –љ–µ –Є–Ј —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –У—А–µ—Ж–Є—П > –Ш—В–∞–ї–Є—П > –§—А–∞–љ—Ж–Є—П.
–Я—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Љ–Њ–≥–ї–∞ –±—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞—В—М –Ј–Њ–љ—Г –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ.
–≠—В–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –Њ–±–Њ–є—В–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞/—Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є
–Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ (–љ–µ–Ј–∞—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е) –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б –С–∞–ї–Ї–∞–љ.
–°–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ —Г —А–∞–Ј–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤
–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ —Г –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞
–Э–∞—И–µ–ї –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Т. –Р. –°–∞—Д—А–Њ–љ–Њ–≤–∞ "–Ш–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л" (1989)
—А–µ—В—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Г –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є.
–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–Є–є —Б–≤–Њ–і. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –±—Г–Ї–≤ :)
Note: –Т —Б–Ї–∞–љ–µ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –µ—Б—В—М –Њ–±—А—Л–≤, –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ, —П –µ–≥–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї.
–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –Р–Ј–Є–Є
–Р–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –≤ 7 —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞—Е –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞:
–Ш–љ–і–Є—П . –Т—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –®–ї–µ–≥–µ–ї–µ–Љ (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 6, 7), –®–ї–µ–є—Е–µ—А–Њ–Љ (–Р. –®–ї–µ–є—Е–µ—А, 1861-1862)
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞ –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–Є.
–Ь–ї–∞–і–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—Б—В–∞ –љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П,
—З—В–Њ –і–Њ –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ –∞—А–Є–µ–≤ –Ш–љ–і–Є—О –љ–∞—Б–µ–ї—П–ї–Є –і—А–∞–≤–Є–і–Њ–Є–і–љ—Л–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–є.
–°–Ї–ї–Њ–љ—Л –У–Є–Љ–∞–ї–∞–µ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞,
–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ –†–Є–≥–≤–µ–і–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л
–Є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є —Д–ї–Њ—А—Л –Є —Д–∞—Г–љ—Л –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е (–Ъ–ї–∞–њ—А–Њ—В: –®—А–∞–і–µ—А, —Б. 9-10).
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ (–љ–∞ 3000 –ї–µ—В)
–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞,
—Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –≤–µ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є,
–∞ —Б –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –Є –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—В–њ–∞–ї–Њ –Є –≤–Њ–≤—Б–µ.
–†—П–і –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–ї–Њ—А—Л (–Њ—Б–Є–љ–∞, —В–Є—Б–µ, –±—Г–Ї) –Є —Д–∞—Г–љ—Л (–±–Њ–±—А, —В–µ—В–µ—А–µ–≤) –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –У–Є–Љ–∞–ї–∞—П—Е –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Ї –љ–Є–Љ —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є (–®—А–∞–і–µ—А, 1886; –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є 1973, —Б. 21-66).
–°–Њ–≥–і–Є–∞–љ–∞ –Є –±–∞—Б—Б–µ–є–љ—Л –ѓ–Ї—Б–∞—А—В–∞ –Є –Ю–Ї—Б—Г—Б–∞ (–¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Р–Ј–Є—П) —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —А—П–і–µ —А–∞–±–Њ—В –њ—А–Є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є (–Ъ–Є–њ–µ—А—В, –Я–Є–Ї—В–µ: –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б 21-66; –®—А–∞–і–µ—А, 1888, —Б. 24-26, 143),
–Љ–љ–Є–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є —Б–µ–Љ–Є—В–Њ–≤ (–У–Њ–Љ–Љ–µ–ї—М, –Ъ—А–µ–Љ–µ—А: –®—А–∞–і–µ—А, —Б. 60-62), –Њ–± –Њ–±–Љ–µ–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—А—П (–Ъ–Є—А–Є, 1921),
–љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є,
–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–є –ї–Њ—И–∞–і—М—О –≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е (–Ъ–Њ–њ–µ—А, 1935, —Б. 1-32).
–≠—В–Њ—В —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –љ–∞–±–Њ—А –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є, –∞ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –Ј–і–µ—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –µ–µ —Д–ї–Њ—А—Л (–Њ—Б–Є–љ–∞, –±–µ—А–µ–Ј–∞, —В–Є—Б, –±—Г–Ї, –≤–µ—А–µ—Б–Ї ) –Є —Д–∞—Г–љ—Л (–±–Њ–±—А, —В–µ—В–µ—А–µ–≤ ).
–Ю–і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –≤ IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н. –Ш–Ј –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –ї–Є—И—М –≠–ї–∞–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ—А–Є—А—Г—З–µ–љ–Є–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є.
–Ф–∞–љ–љ—Л–µ –Р–≤–µ—Б—В—Л –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –ї–Є—И—М –Ї –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ –∞—А–Є–µ–≤ (–Ъ. –Я–∞–∞–њ–µ, 1906), –љ–Њ –љ–µ –Ї –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ "–∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В –±–Њ–±—А–∞", –њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ, –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –µ–µ –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.
–Р–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л (–§–ї–Њ—А: –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1974, —Б. 21-66), –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л,
–њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї–Њ–Є–і–љ—Л–Љ –Є —В—О—А–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ.
–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ —А–µ–Ј–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–Є —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є,
—Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ–Є –≤ —Б—В–µ–њ–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–Њ–Є–і–љ–Њ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ (–∞—Д–∞–љ–∞—Б—М–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Є –∞–љ–і—А–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л).
–Ь–µ—Б–Њ–њ–Њ—В–∞–Љ–Є—П , –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Ь–Њ–Љ–Ј–µ–љ–Њ–Љ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –і–∞–љ—М –њ–∞–љ–≤–∞–≤–Є–ї–Њ–љ–Є–Ј–Љ—Г,
–Є –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Д–ї–Њ—А—Л (–±–µ—А–µ–Ј–∞, –Њ—Б–Є–љ–∞, —В–Є—Б–µ, –≥—А–∞–±, –±—Г–Ї, –≤–µ—А–µ—Б–Ї)
–Є —Д–∞—Г–љ—Л (–±–Њ–±–µ—А, —В–µ—В–µ—А–µ–≤, –≤–Њ —А–Њ–љ) (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1974, —Б. 21-66; –®—А–∞–і–µ—А, —Б. 22-23).
–С–ї–Є–ґ–љ–Є–є –Є –°—А–µ–і–љ–Є–є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї –±—Л–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ –Я–∞—Г–ї–Є (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 139-140) –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ '–ї–µ–≤' - –Є—Б–Ї–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—В—М –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г –±–∞–ї–Ї–∞–љ–Њ-–і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є–є —А–µ–≥–Є–Њ–љ,
–≥–і–µ –≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –ї–µ–≤ –µ—Й–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є –њ—А–Є–Љ—Л–Ї–∞—О—Й–Є–µ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Г —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–µ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.
[–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П ]. –°–Љ–µ–ґ–љ—Л–µ —Б —Е–µ—В—В–∞–Љ–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї –≤ –Ј–Њ–љ—Г –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –°–µ–є—Б (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б. 21-66)
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ–±—Й–Є—Е —Б–ї–Њ–≤ –≤ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–∞—Е.
–Т –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г–ґ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Е–µ—В—В—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є.–µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –°–µ–є—Б–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б —Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М,
–Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –і—А—Г–≥–Њ–µ –Є –Ї–∞–Ї –Ї—Г—А—М–µ–Ј.
[–Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј ]. –Ю–±–ї–∞—Б—В–Є, —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–µ —Б –У—А—Г–Ј–Є–µ–є, –Р—А–Љ–µ–љ–Є–µ–є (–Р—А–Љ—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–≥–Њ—А—М–µ) –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–Є–ї –≤ –Ј–Њ–љ—Г –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л
–≤ 1822 –≥–Њ–і—Г –Ы–Є–љ–Ї (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б. 21-66), —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –≥–Њ—А–љ–Њ–є —Б—В—А–∞–љ–µ,
–≤ –Ј–Њ–љ–µ –Њ–і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–≤–∞–љ–Є—П —А–∞—Б—В–µ–љ–Є–є –Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е.
"–Ю—В—Ж–Њ–Љ —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞" –Ы–Є–љ–Ї —Б—З–Є—В–∞–ї –Ј–µ–љ–і—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –∞ —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ (–®—А–∞–і–µ—А, 1836, —Б. 7).
–°–њ–Є—Б–Њ–Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ
–Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –і–ї—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ы—Н—В—Н–Љ–Њ–Љ –≤ 1862 –≥–Њ–і—Г (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б. 25; –®—А–∞–і–µ—А, —Б. 129),
–≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—Г—О, –љ–Њ —В—А—Г–і–љ–Њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ—Г—О –Љ—Л—Б–ї—М, —З—В–Њ –ї–µ–≥—З–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ—В–њ–Њ—З–Ї–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞ –Њ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,
—А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤—Б–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є –Њ—В —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞.
–Р—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞ –Њ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В—М
–ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є –љ–∞ 3000 –ї–µ—В –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В–∞.
–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ –њ–∞–ї–∞—В–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –Љ–љ–µ–љ–Є—П –®–ї–µ–є—Е–µ—А–∞ –Њ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ '–∞'
–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є–Ј –љ–µ–≥–Њ –≥–ї–∞—Б–љ—Л—Е - '–µ, –∞, –Њ' - –≤ –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–∞—Е, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б–µ –≥–ї–∞—Б–љ—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ.
–Ш—В–∞–Ї, –≤–Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ—Л –і–ї—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є:
1. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Њ—В –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –і–Њ –£—А–∞–ї–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г 60¬∞ –Є 45¬∞ —И–Є—А–Њ—В—Л –±—Л–ї–∞ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Ъ—Г–љ–Њ (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 136).
–Ъ—Г–љ–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —А–∞—Б–њ–∞–і–∞, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л
(–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1 –Љ–ї–љ. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї) –Є –Є–Љ–µ—В—М –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л —Б —Д–Є–љ–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ.
–Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ —Б—В–Њ–ї—М —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е –≤—А—П–і –ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М, –∞ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ 1 –Љ–ї–љ. —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤–Ј—П—В–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ.
–Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Њ—В –†–µ–є–љ–∞ –і–Њ –Ф–Њ–љ–∞, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –≤–љ–Њ–≤—М –Ъ—О–љ–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П –Є –±—Л–ї–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ –≤—Л—И–µ–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞,
–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–љ—П—В–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ (–Я–Ш–Х) –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–Њ–≤.
–Ч–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Љ–µ—В–Њ–і –Ъ—О–љ–∞ - –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є —Б –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–Њ–Љ
(–Ш–љ–і–Є—П, –У—А–µ—Ж–Є—П, –Ш—В–∞–ї–Є—П, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П, –С—А–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞).
–Х—Б–ї–Є –±—Л –Ъ—О–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ/ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї –Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—В —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –і–ї—П –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–ї–Њ—А—Л –Є —Д–∞—Г–љ—Л,
—В–Њ –Ј–Њ–љ–∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л —Б—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М.
2. –Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г 45 –Є 69 –≥—А–∞–і—Г—Б–∞–Љ–Є —И–Є—А–Њ—В—Л –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –®–њ–Є–≥–µ–ї–µ–Љ (–®—А–∞–і–µ—А, 1886),
–≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ –љ–∞ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ –љ–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ.
–У–Њ—А—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –Є –Є–Љ–µ–ї–Є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –њ–Њ—Б–µ–≤–∞ —А–ґ–Є –Є –њ—И–µ–љ–Є—Ж—Л, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –Є. –µ. –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ.
"–Р—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞" –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л
–Ї—А–Њ–Љ–µ –Я—А–µ–і–Ї–∞—А–њ–∞—В—М—П, –Я—А–µ–і–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—М—П, –Я—А–Є—Г—А–∞–ї—М—П; –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –®–њ–Є–≥–µ–ї–µ–Љ (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 146-148) —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ "–∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –±—Г–Ї–∞"
–њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є –Я—А–Є—Г—А–∞–ї—М–µ.
–Э–µ–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±–µ—Б—Ж–µ–љ–Є–ї–Є —А–∞–±–Њ—В—Г –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –®–њ–Є–≥–µ–ї–µ–Љ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О.
3. –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Я–Ш–Х –±—Л–ї–∞ –≤–љ–Њ–≤—М –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –®–µ—А–µ—А–Њ–Љ (–®–µ—А–µ—А, 1947, —Б. 288-304) –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П.
–Ю–љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –Є.–µ. –Є —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–∞—Е –µ—Б—В—М –Ї–Њ—А–љ–Є, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–µ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М —Б —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є, —Е–Њ—В—П –±—Л –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —З–∞—Б—В–Є.
–Ю–±–ї–∞—Б—В–Є, –Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є, –Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –Є. –µ. –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞–љ—П—В—Л–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є:
–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж—Л, –Ї–µ–ї—М—В—Л, –Є—В–∞–ї–Є–є—Ж—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–µ–≤–µ—А –Є —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і –Є. –µ. —Н–є–Ї—Г–Љ–µ–љ—Л;
–±–∞–ї—В–Њ-—Б–ї–∞–≤—П–Є–µ - —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї;
–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞ –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–∞—Е - —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї.
–Я—А–Њ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –Ь–µ–є–µ, —В—А—Г–і–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—В—М.
–Э–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —Н–њ–Є—Ж–µ–љ—В—А –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є, –∞ –љ–µ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ,
—В–Њ–≥–і–∞ –±—Л –њ–µ—А–µ–і–≤–Є–ґ–Ї–Є –Є. –µ. –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –±—Л–ї–Є –±—Л –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л, –∞ –µ–µ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ї—А–∞–є –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–∞—Б–∞–ї—Б—П –±—Л —Б —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±–ї–∞—Б—В—П–Љ–Є.
4. –Т–Њ–ї–≥–∞ - –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –†–Є–≥–≤–µ–і—Л (Rasa), –Р–≤–µ—Б—В—Л (Ranha), –Я—В–Њ–ї–Њ–Љ–µ—П (Ra).
–Ґ–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ъ–љ–∞—Г—Н—А (1912, —Б. 67-88).
–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—И–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є —Б –Љ–Њ—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П –Т–Њ–ї–≥–Є Ravo (–Р–±–∞–µ–≤, 1965, —Б. 122)
–Є –і–∞–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–Љ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞, –∞ —Г–ґ–µ –Њ—В–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ—В –Є. –µ. —П–і—А–∞ –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж—Л:
–≤–µ–і—М —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–± —Н—В–Њ–є —А–µ–Ї–µ —Е–Њ—В—П –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —Б–∞–Љ—Л–Љ –і—А–µ–≤–љ–Є–Љ –њ–ї–∞—Б—В–∞–Љ –†–Є–≥–≤–µ–і—Л –Є –Р–≤–µ—Б—В—Л,
–љ–Њ –љ–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М–µ –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л.
5. –Ю–±–ї–∞—Б—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞–Љ–Є вАФ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ вАФ —В–∞–Ї–Њ–є –≤—Л–≤–Њ–і —Б–і–µ–ї–∞–ї –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–є
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–є –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —Б —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є (–Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–є, 1958, —Б. 65вАФ77).
–Я–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Є. –µ. –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Є –Э–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М, –∞ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–±—А–∞–ї–∞—Б—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–∞–Љ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,
–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤—Л–≤–Њ–і –Ґ—А—Г–±–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—Г—О—Й–Є–є—Б—П —Б —В–µ–Њ—А–Є–µ–є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Д–∞–Ј —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є. –µ. –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞, –љ–µ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є.
–Т—Л–≤–Њ–і –Њ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ —В—А—Г–і–∞—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є —Г—З–µ–љ—Л—Е. –Ф–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ—В —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ.
6. –І–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є вАФ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ вАФ —В–∞–Ї –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О—Й–Є–µ –µ–µ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ.
–Т—Б—П –њ–Њ–ї–Њ—Б–∞ –њ–Њ–Є—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В—Б—З–њ–µ–є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Я–Ш–Х –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В–∞ –С–µ–љ—Д–µ–µ–Љ ,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞—Г–љ—Л (—В–Є–≥—А, –≤–µ—А–±–ї—О–і) –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –Р–Ј–Є–Є (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 131).
–Т –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Н—В–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –Њ–љ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї —Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–Є –ї—М–≤–∞, —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П,
—З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –±—Л –ї–µ–≤ –±—Л–ї —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ —Д–∞—Г–љ—Л –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л, —В–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ.
–Ш. –µ. –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ–ї–Є, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –С–µ–љ—Д–µ—П, —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ–Њ–±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Њ—В –Ъ–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П.
–° —Н—В–Є–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П –љ–µ–ї—М–Ј—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–Њ–ї—М –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –Є –≤ –њ—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е (–Р–±—Е–∞–Ј–Є—П), –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞.
–Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ вАЩ–ї–µ–≤', –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Я–∞—Г–ї–Є (–®—А–∞–і–µ—А, 1886, —Б. 139), —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Є. –µ. –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П
–Є –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Я–Ш–Х –≤ —З–∞—Б—В–Є –С–∞–ї–Ї–∞–љ–Њ-–Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞.
–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≤ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞—Г–љ—Л, –і–Њ–±–∞–≤–Є–Љ –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г, –Є —Д–ї–Њ—А—Л —В–Њ–ґ–µ (–Ї–µ–і—А, –Ї–Є–њ–∞—А–Є—Б, –њ–∞–ї—М–Љ–∞),
–±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л.
7. –°—В–µ–њ–Є –Њ—В –†–µ–є–љ–∞ –і–Њ –У–Є–љ–і—Г–Ї—Г—И–∞ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –®—А–∞–і–µ—А–∞ , –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤
–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞—Г–Ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –®—А–∞–і–µ—А—Г —Б—Г–Ј–Є—В—М –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –Є–Љ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –і–Њ —О–ґ–љ–Њ-—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є.
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –Є–Ј –Ј–Њ–љ—Л –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є,
–Ј–∞–љ—П—В—Л–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ вАФ –Ш–љ–і–Є—П, –Ш—А–∞–љ, –Ь–∞–ї–∞—П –Р–Ј–Є—П, –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, –Р–њ–µ–љ–љ–Є–љ—Л, –Я–Є—А–µ–љ–µ–Є, —Б–µ–≤–µ—А –†–Њ—Б—Б–Є–Є (–®—А–∞–і–µ—А, 1913, —Б. 191вАФ206).
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –®—А–∞–і–µ—А–∞ –Њ —А–∞–≤–љ–Є–љ–љ–Њ–Љ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л.
–Ф–Њ –љ–µ–≥–Њ –µ—Й–µ –Ы–Є–љ–Ї–Њ–Љ –≤ 1821 –≥–Њ–і—Г –±—Л–ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ—Л –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ –љ–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ;
–љ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–ї–Є—Б—М –Њ–љ–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П '–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤.
–Ш–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є–ї –Љ—Л—Б–ї—М –Њ –≥–Њ—А–љ–Њ–Љ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–µ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л
–®–њ–Є–≥–µ–ї—М –≤ 1869 –≥. (–®—А–∞–і–µ—А, 1886), –У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤ (–У–µ–Њ—А–≥–Є–µ–≤, 1958).
–У–∞–Љ–Ї—А–µ–ї–Є–і–Ј–µ –Є –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤ (1984, —Б. 665вАФ670) —Б–Њ–±—А–∞–ї–Є –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ–Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–Є–Љ—Л–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Н—В–Њ–≥–Њ.
–Ю—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–∞ –≤ —О–ґ–љ–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–µ—Б–љ—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Д–∞—Г–љ—Л (—В–µ—В–µ—А–µ–≤)
–Є —Д–ї–Њ—А—Л (–±—Г–Ї, —Б–Њ—Б–љ–∞, –њ–Є—Е—В–∞, –≤–µ—А–µ—Б–Ї, —В–Є—Б—Б, –Њ—Б–Є–љ–∞ –Є –і—А.),
–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–µ –љ–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –ї–µ–≤,
–і–µ–ї–∞—О—В –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Я–Ш–Х –≤ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е.
–≠—В–Њ–Љ—Г –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–Љ–Њ—З—М –љ–∞–Є–≤–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –Є. –µ. –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є
–љ–Є –њ—З–µ–ї, –љ–Є –Љ–µ–і–∞, –љ–Є —Г–≥—А–µ–є, –љ–Є –ї–Њ—И–∞–і–µ–є (–І–∞–є–ї–і, 1950).
–Я—З–µ–ї—Л —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ; –љ–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і—Г–Љ–∞—В—М, —З—В–Њ –Є—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є,
–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П-–Љ–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Л, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї –≤–µ—А–µ—Б–Ї, —В—П–≥–Њ—В–µ–ї–Є, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≤ –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ —А–∞–є–Њ–љ–∞–Љ –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–Х—Б—В—М –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Ї –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Г —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –Є. –µ. –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ—Б–ї–Є –Є –ї–Є–њ–∞, –Є —И–Є–њ–Њ–≤–љ–Є–Ї, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ–і–Њ–љ–Њ—Б—Л.
–£–≥–Њ—А—М - —В–Є–њ–Є—З–љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М —Д–∞—Г–љ—Л —А–µ–Ї, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –≤ –С–∞–ї—В–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ.
–Ы–Њ—И–∞–і—М , –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Э–µ–Ї–µ–ї—М (1944) –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ —Б –њ–∞–ї–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –∞ –µ–µ –і–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–Ї–∞—Ж–Є—П,
–≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ; –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ-–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А –і–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –≤ –і–љ–µ–њ—А–Њ-–і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е,
–њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —А—П–і–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –њ–Њ—З—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –і–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є (–Э–µ–Ї–µ–ї—М, 1944),
–≥–і–µ –і–Њ–Љ–∞—И–љ—П—П –ї–Њ—И–∞–і—М –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ —Г–ґ–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —В–Є—Б–∞–њ–Њ–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, —Б–Є–љ—Е—А–Њ–љ–љ–Њ–є –Ґ—А–Є–њ–Њ–ї—М—О –Т1.
–Т—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –њ–Њ–љ—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Є —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ,
—З—В–Њ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ–Љ –Є –Р–ї—В–∞–µ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Љ–∞–ї–Њ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є. –µ. —Б–ї–Њ–≤ –ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞
–і–ї—П "–Ј–µ–Љ–ї–Є –Є –њ–Њ—З–≤—Л" —Б –Є–і–µ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є-–±–Њ–≥–Є–љ–Є –≤ —Б—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—Г–ї—М—В–µ
–Є –Є. –µ. –Њ–±—Л—З–∞–µ–Љ –ґ–µ—А—В–≤–Њ–њ—А–Є–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—П –љ–µ–±—Г —Г –∞–ї—В–∞–є—Ж–µ–≤ (–Я—Г–∞—Б—Б–Њ–љ, 1934).
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ—Г—В–Є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –Є. –µ. –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ –Є –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ (–У–∞–Љ–Ї—А–µ–ї–Є–і–Ј–µ, –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤, 1981, —Б. 26).
8. –Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є —Б –Њ—Е—А–Њ–є - –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В –і–ї—П –њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ -
–Ї —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –≤—Л–≤–Њ–і—Г –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –њ—А–Є—И–µ–ї –І–∞–є–ї–і , –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–≤—И–Є–є —Б–Љ–µ–ї—Г—О –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ—Е –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А
–Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —О–ґ–љ–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є (–І–∞–є–ї–і, 1926).
–Ґ–µ–Ј–Є—Б –І–∞–є–ї–і–∞ –Њ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ —О–ґ–љ–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —А–∞–±–Њ—В–µ –°—Г–ї–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ ,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—В—А–∞—В–Є–≥—А–∞—Д–Є–Є —П—Б–Ї–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Є—Е –Є —О–ґ–љ–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї 2 —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л,
–Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—А—П–і–Њ–≤–Њ–є –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О , —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї—Г –Ъ–®–Ъ (–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —И–љ—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї) –Є —П–Љ–љ—Г—О ("—Б—В–∞—А—И–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –≤ —П—Б–Ї–Њ–≤–Є—Ж–Ї–Є—Е –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞—Е").
–Э–∞ —Н—В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –°—Г–ї–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–є —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Л–≤–Њ–і –Њ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±–µ–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ –Є –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Є–Ј –і—А–µ–≤–љ–µ—П–Љ–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤ –Ъ–®–Ъ.
–°–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Ъ–®–Ъ –Є–Ј –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П –≤ —Б—В–µ–њ–љ—Л–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л (–°—Г–ї–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–є–є, 1933 –Є 1968).
–Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –І–∞–є–ї–і –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ "–Њ–≤–Њ–Є–і–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—Г–і—Л —П–Љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л - —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є —Б–∞–Ї—Б–Њ—В—О—А–Є–љ–≥—Б–Ї–Є–µ,
—О—В–ї–∞–љ–і—Б–Ї–Є–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —В–Є–њ—Л —И–љ—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤" (–І–∞–є–ї–і, 1950, —Б. 144).
–Э–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –І–∞–є–ї–і –і–µ–ї–∞–ї –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л –Ъ–®–Ъ,
"–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–µ–ї—М—В–Њ–≤, —В–µ–≤—В–Њ–љ–Њ–≤ (–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤ - –Т. –°.) –Є —Б–ї–∞–≤—П–љ, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Њ—В–≤–µ—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—А–Њ–і–∞ -
–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Њ—Е—А–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є" (–І–∞–є–ї–і, 1950, —Б. 140), —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ,
—З—В–Њ "–љ–∞—А–Њ–і –њ–Њ–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є –±—Л–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Ї—А—Л–ї–Њ–Љ —А—Л—Е–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ–∞ –Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞—Б—В—Г—И–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤,
–Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ, —Е–Њ—В—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П.
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є, –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Р–ї–∞–і–ґ–µ, –Є —И–∞—Е—В–Њ–≤—Л—Е –≥—А–Њ–±–љ–Є—Ж–∞—Е, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б—В–µ–њ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞
–Є –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л –Ј–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —В–∞–Љ –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ - —Е–µ—В—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ" (–І–∞–є–ї–і, 1950, —Б. 140).
–Я–µ—А–≤—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є –І–∞–є–ї–і —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї —Б –Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–љ–µ—Б—И–Є–Љ–Є –≤ —Н—В–Є —А–∞–є–Њ–љ—Л –Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Г—О –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О (–Ґ—А–Њ—П IV-V)
"–Љ–Є–љ–Є–є—Б–Ї—Г—О –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї—Г", –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤ –Ь–∞–Ї–µ–і–Њ–љ–Є–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є—О –•–∞–ї–Ї–Є–і–Є–Ї—Г.
–†–∞–љ–љ–µ–Љ–∞–Ї–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –І–∞–є–ї–і–Њ–Љ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ї–∞–Ї –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б —А–∞–љ–љ–µ–±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–Љ –≤–µ–Ї–Њ–Љ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є,
—Б –і—А—Г–≥–Њ–є - —Б –±–∞–і–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є.
–≠—В–Њ –і–∞–≤–∞–ї–Њ –І–∞–є–ї–і—Г –њ–Њ–≤–Њ–і —Б—З–Є—В–∞—В—М –±–∞–і–µ–љ—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є (–І–∞–є–ї–і, 1950, —Б. 149).
–І–∞–є–ї–і, —Б—З–Є—В–∞—П –±–∞–і–µ–љ—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г "I —Б—В—Г–њ–µ–љ—М—О —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –≤ —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ" –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М,
—З—В–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Н—В–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–є (—В–∞–Љ –ґ–µ).
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –І–∞–є–ї–і –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –Є. –µ. –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –љ–µ—Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤—Л–Љ –Ї–Њ–љ–≥–ї–Њ–Љ–µ—А–∞—В–Њ–Љ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—Б—В—Г—И–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ,
–і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—П, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≥–ї–Њ–Љ–µ—А–∞—В–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Б –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є –і—А–µ–≤–љ–µ—П–Љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ,
—З—В–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –≤–ї–Є—П–љ–Є–є –љ–µ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ –љ–µ—А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–∞–ї—Л –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П.
–Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –Ь. –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б –Њ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О –І–∞–є–ї–і–∞ ,
–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б –њ—А–Є–і–∞–ї–∞ –≤–µ–Ї—В–Њ—А–љ—Г—О –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М,
–Њ—В–±—А–Њ—Б–Є–≤ –Ї–∞–Ї –±–∞–ї–ї–∞—Б—В —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –І–∞–є–ї–і–∞ –≤ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є.
–Я—А–Њ—В–Њ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б —Б—З–Є—В–∞–ї–∞ –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є —П–Љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л,
"–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Є —О–≥. –≤ V-IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н. –Є–Ј –Њ–±–ї–∞—Б—В–µ–є –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Ф–Њ–љ–∞ –Є –Э–Є–ґ–љ–µ–є –Т–Њ–ї–≥–Є (–У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б, 1970, —Б. 483).
–ѓ–Љ–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –і–∞–µ—В, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ь. –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б, –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–є –Є–Љ–њ—Г–ї—М—Б, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Є. –µ. –Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л
–љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–Њ–љ—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е, –љ–Њ –Є –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ–∞—Е.
–Ъ—Г—А–≥–∞–љ–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –њ–Њ –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б, —Н—В–Њ -
—П–Љ–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞,
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є —Б –Њ—Е—А–Њ–є,
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –±–Њ–µ–≤—Л—Е —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤,
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —И–љ—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї,
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ—Л—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є –Ф–∞–љ–Є–Є (—В–∞–Љ –ґ–µ, —Б. 483).
–Ш–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Ь. –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б –≤–Є–і–Є—В –≤ –і–µ–Ј–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Ф—А–µ–≤–љ–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л V-IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.
(–Т–Є–љ—З–∞ II-III, –Ы–µ–љ–і—М–µ–ї, –Ґ–Є—Б—Б—Л-–С–Ї–ґ–Ї–∞, –Ъ—Г–Ї—Г—В–µ–љ–Є, –У—Г–Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж—Л ),
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–є —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В –љ–∞ —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л
–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤ -
–љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–∞ –≤ –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Х–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —А–∞–≤–љ–Є–љ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ф–∞–љ–Є–µ–є –Є –Я–Њ–ї—М—И–µ–є (–У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б, 1970, —Б. 15).
–Я–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–∞—П –Є–љ—Д–Є–ї—М—В—А–∞—Ж–Є—П —Б —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н. –≤ —А–∞–є–Њ–љ—Л –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –≤ 2500-2000 –≥–≥. –і–Њ –љ. —Н. –Є–љ–≤–∞–Ј–Є–µ–є [–≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ],
–≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є,
—Г—Ж–µ–ї–µ–≤—И–Є—Е —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –Ъ—А–Є—В–µ (–У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б, 1970, —Б. 15 –Є –µ–ї.).
–Т–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П, –њ–Њ –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б,
–Ї—Г—А–≥–∞–љ—Л –Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А—П–і –≤ —П–Љ–∞—Е –≥–і–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б–Ї–µ–ї–µ—В—Л, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ —Б–Ї–Њ—А—З–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ .
–≠—В—Г "—Б–±–Њ—А–љ—Г—О" –Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—В–Њ–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ I- II —Н—В–∞–њ–∞,
–њ—А–Є–Љ–µ—И–Є–≤–∞—П –Ї —Н—В–Њ–є "–Њ–Ї—А–Њ—И–Ї–µ" –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –≤–Ј—П—В—Л–µ –Љ–∞–є–Ї–Њ–њ—Б–Ї–Є–µ –Є –љ–Њ–≤–Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л (–љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –љ–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є,
–љ–Є —Б –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б—В–µ–њ–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ–Є), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –µ–є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і –Њ–± –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞—Е –Ї–∞–Ї "—В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л—Е –Ї—Г–њ—Ж–∞—Е".
–Ю–і–љ–Њ –±–µ–Ј–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–Њ–ґ–і–∞–µ—В –і—А—Г–≥–Њ–µ.
–£–і—А–µ–≤–љ–µ–љ–Є–µ —П–Љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –і–Њ V-IV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.- –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ –љ–∞ —В—Л—Б—П—З—Г –ї–µ—В –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –і–∞—В–∞–Љ–Є - –љ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є.
–°—Б—Л–ї–Ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Г–і—А–µ–≤–љ–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–Є –њ–Њ —И–Ї–∞–ї–µ –Ч—О—Б—Б–∞ –љ–µ —Б–њ–∞—Б–∞–µ—В –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П,
–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –њ–Њ –°-14 —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ "–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ—П–Љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –Я–Њ–і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—М—П –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М—П
—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞—Е 2-–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л III -–љ–∞—З–∞–ї–∞ II —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н. (–У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б, 1970, —Б. 13).
–Р —Г–і—А–µ–≤–љ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–Њ–є –Ч—О—Б—Б–∞, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ –љ–∞ 700 –ї–µ—В,
–Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Ї–Є –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б—З–Є—В–∞—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ,
–∞ —Д–∞–Ї—В—Л —А–µ–Ј–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Ї–∞–ї–Є–±—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –і–∞—В —Г–і–≤–∞–Є–≤–∞—О—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е.
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –њ—А–Є–љ—П—В—М —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О —П–Љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Г—О –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б.
–І–∞–є–ї–і –≤—Л–±–Њ—А–Њ—З–љ–Њ –≤ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ:
–Њ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Њ–Љ –Є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–µ, –Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б –Љ–µ–і—М—О (–І–∞–є–ї–і, 1950, —Б. 148),
–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї –Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–µ –Є –Ї–ї–Є–Љ–∞—В–µ, –Њ —Д–ї–Њ—А–µ –Є —Д–∞—Г–љ–µ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л,
–∞ –≤–µ–і—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є –і–∞–љ–љ—Л–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –≤ —А–µ–Ј–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–Є —Б –µ–µ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –≤ —Б—В–µ–њ—П—Е –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –Њ–±–µ—Й–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Є–Ј –њ–Њ–љ—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є –љ–µ —Г–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є; –љ–µ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–∞ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є.
–ѓ–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–µ –ґ–µ —Д–∞–Ї—В—Л –Њ –ї–∞–љ–і—И–∞—Д—В–µ, —Д–∞—Г–љ–µ, —Д–ї–Њ—А–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –њ–Њ–љ—В–Њ-–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ—П—Е
(–∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Њ—Б–Є–љ—Л, –±—Г–Ї–∞, –≥—А–∞–±–∞, —В–Є—Б—Б–∞, –≤–µ—А–µ—Б–Ї–∞, –±–Њ–±—А–∞, –ї—М–≤–∞).
–Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Н—В–Є –љ–µ—Г–≤—П–Ј–Ї–Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г—О—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б—В–µ–њ—П—Е –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–Ю—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–є–Њ–љ—Л –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –µ—Й–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—В –і–ї—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є.
9. –Ы–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ (–С—А–Є–љ—В–Њ–љ, 1890) —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–ї—Л–≤—З–∞—В–∞ –Є –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В—М —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Г–ґ–µ –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –®—А–∞–і–µ—А –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї –њ—А–µ–±—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤
–њ–Њ—Б–ї–µ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ –Є. –µ. –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е (–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л, –Р–њ–њ–µ–љ–Є–љ—Л, –Я–Є—А–µ–љ–µ–Є, –§—А–∞–љ—Ж–Є—П).
10. –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–∞—Б—М –Я–µ–љ–Ї–Њ–є (1883-1886), —Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–Љ,
—З—В–Њ –ї–Є—И—М –°–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±–ї–∞—Б—В—М—О –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –Є –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Л - –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л,
—В–Њ –Є –і—А–µ–≤–љ–Є–µ —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Л –±—Л –ї–Є –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–∞–Љ–Є.
–Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –Я–µ–љ–Ї–Њ–є, —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М —В–Њ, —З—В–Њ —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Л –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—А–Є–Є –±—Л–ї–Є –±–µ–ї–Њ–Ї—Г—А—Л –Є –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–≥–ї–∞–Ј—Л.
–Э–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ—Г—О –Х–≤—А–Њ–њ—Г –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Г–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Ї–∞–Ї –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ (–Я–∞–∞–њ–µ, 1906),
—В–∞–Ї –Є –љ–∞ –і–∞–љ–љ—Л—Е –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є–Ї–Є (–Ґ–Є–Љ–µ; –Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973).
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Њ–±—Й–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –і–µ—А–µ–≤—М–µ–≤ (—В–Є—Б—Б–∞, –≥—А–∞–±–∞, –≥—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—А–µ—Е–∞), –љ–µ —А–∞—Б—В—Г—Й–Є—Е –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ,
–Є —О–ґ–љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е (–ї—М–≤–∞) –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–µ–≤–µ—А–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г –љ–µ—А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є.
11. –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Є–ї–Є –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Ь–∞–љ–љ ,
—Г–Ї–∞–Ј–∞–≤—И–Є–є –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ ,–Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ –±—Л–ї–Є –ї–µ—В–Њ, –Њ—Б–µ–љ—М, –Є –Ј–Є–Љ–∞ (–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ї–µ–≥–µ–љ–і, —Б–Ї–∞–Ј–Њ–Ї, –Є–≥—А —Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤),
–љ–µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є—В –і–ї—П –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є.–µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В–µ—Е –ґ–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —З—В–Њ –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞.
–Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –≥–Њ–і–∞ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –µ–µ —Б–∞–Љ—Л—Е —О–ґ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤.
12. –°–µ–≤–µ—А–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ - –Њ—В –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –С–∞–ї—В–Є–Ї–Є –і–Њ –Ю–і–µ—А–∞ –Є –і–Њ –њ—А–µ–і–≥–Њ—А–Є–є –Ъ–∞—А–њ–∞—В (–Ь—Г—Е, 1902) –Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є (–Ъ–Њ—Б—Б–Є–љ–∞, 1902),
–њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –µ—Й–µ –Ї –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–µ –Ш. –У–µ–є–≥–µ—А–∞ , –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ 1871 –≥–Њ–і—Г
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П—Е (–∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –±—Г–Ї–∞, –±–µ—А–µ–Ј—Л, —П—Б–µ–љ—П, –і—Г–±–∞), –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Г–≥—А—П, —В—А–µ—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –≥–Њ–і–∞
–њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є—О –Ї–∞–Ї –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤.
–•–Њ—В—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –≤ —Н—В–Њ–Љ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ —А–µ–∞–ї–Є—П–Љ, –љ–µ—В—А—Г–і–љ–Њ –≤–Є–і–µ—В—М
–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–µ–і–≤–Ј—П—В–Њ—Б—В—М: –≤–µ–і—М –≤—Б–µ –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є–Љ–µ—О—В –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –∞—А–µ–∞–ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Є —О–≥–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–Ъ–Њ—Б—Б–Є–љ–∞, –±—Г–і—Г—З–Є —Д–Є–ї–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –і–∞–љ–љ—Л–µ –У–µ–є–≥–µ—А–∞ –Њ —Д–ї–Њ—А–µ –Є —Д–∞—Г–љ–µ, (–®—А–∞–і–µ—А, 188–≤, —Б. 132-1-33),
–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, —Е–Њ—В—П –Є –≤ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ, –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л –µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є.
–Ю–љ –≤–Є–і–µ–ї –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –≤ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–µ —А—П–і–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Є –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –Є —О–ґ–љ—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е.
–°—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –ґ–µ —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Є –њ–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Є—Е –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–Љ —З–µ—А—В–∞–Љ.
–Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л —В–Њ—З–љ—Л –Є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л, –∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л—Б–ї–Є –љ–∞–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ–µ—А–µ–і–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ—П.
–Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Ї–µ–ї—М—В–Њ–≤ –Є –Є—В–∞–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Њ—В –≥—А—Г–њ–њ—Л –†–µ—Б—Б–µ–љ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є —Г—З–µ–љ—Л–Љ–Є (–Ь—Н–ї–ї–Њ—А–Є, 1973, —Б. 21-66).
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–і–≤–Ј—П—В–Њ –Њ—З–µ—А—З–µ–љ–љ–∞—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л, —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—Й–∞—П —Б –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞–Љ–Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є,
–љ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ъ–Њ—Б—Б–Є–љ—Л, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б–µ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л (–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л)
–У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П–Љ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л—Е –Є —О–ґ–љ—Л—Е –Є—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–є.
–Ъ–Њ—Б—Б–Є–љ–∞ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–ї 14 –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є–љ–і–Њ–≥–µ—А–Љ–∞–љ—Ж–µ–≤ –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ—В –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –і–Њ —Н–њ–Њ—Е–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞.
–Я–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є, –њ–Њ –Ъ–Њ—Б—Б–Є–љ–µ, –љ–∞ —О–≥–µ –Є–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Њ—В –љ–µ–µ,
–њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—П —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Њ–±—Й—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є —Б —Б–µ–≤–µ—А–∞ - "—Б —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л".
–Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —О–ґ–љ—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є –Њ–љ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї —Б —Б–∞—В–µ–Љ–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Є. –µ. —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,
—Е–Њ—В—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –±—Л–ї–Њ —Г–ґ–µ —З–µ—В–Ї–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–∞—В–µ–Љ–љ–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ - –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ—П—П, –Њ—В–і–µ–ї–Є–≤—И–∞—П—Б—П –Њ—В –Є. –µ. –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–∞,
–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–µ–є –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–Њ–є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л.
(–Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П .–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ъ–Њ—Б—Б–Є–љ—Л –і–Є—Б–Ї—А–µ–і–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л,
–љ–Њ –Є –≤—Б–µ –њ–ї–Њ–і–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є - —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-—Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є,
–≤—Л–Ј–≤–∞–≤ –≤–Њ–ї–љ—Г –Љ–∞–ї–Њ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ "–∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–Є–Ј–Љ–∞".
13. –°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ь–µ–є–µ—А–Њ–Љ (–Ь–µ–є–µ—А, 1948)
–љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є. –µ. —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞, –µ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї (–±—Г–Ї, –њ—З–µ–ї–∞, –Љ–µ–і –≤–µ–і—М, –±–Њ–±–µ—А).
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–Њ–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Њ–љ —Б—З–Є—В–∞–ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г —И–љ—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї
–Є –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Г—О —Б –љ–µ–є –љ–Є —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ—О—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є (–Ъ–Ы–Ы–Ъ).
–•–Њ—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –µ–≥–Њ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В—Л (–Љ–µ–і–≤–µ–і—П, –њ—З–µ–ї—Л, –±—Г–Ї–∞) –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л,
–≤ —Б–Њ—З–µ—В–∞–љ–Є–Є —Б –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Є–Ї–Є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Я–Ш–Х –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–є –Ї –Є—Б—В–Є–љ–µ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –∞—А–µ–∞–ї –Я–Ш–Х —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Њ–±—И–Є—А–µ–љ .
–Т –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Я–Ш–Х –њ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—И–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞–Љ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ.
–Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ъ–®–Ъ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ, –∞ –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л –Ъ–Ы–Ы–Ъ —В—П–≥–Њ—В–µ—О—В –Ї –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М—О.
14. –Ґ–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Ї —Б–µ–≤–µ—А—Г –Њ—В –С–∞–ї–Ї–∞–љ, –Р–ї—М–њ –Є –Я–Є—А–µ–љ–µ–µ–≤ –±—Л–ї–∞ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –Ъ—А–∞–µ (1957, 1962, 1968) –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–Њ–љ—Л –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,
–њ—А–Є—З–µ–Љ –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–∞–Љ–Є –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є, –≤—Л–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞- –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л,
–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ–∞—П —Б—В—Г–њ–µ–љ—М —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–∞-–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –Љ–µ–ґ–і—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Є 1500 –≥. –і–Њ –љ.—Н.,
–Ї–Њ–≥–і–∞ —Г–ґ–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є.
–≠—В–Њ—В —А–µ–≥–Є–Њ–љ –±—Л–ї –Ј–∞–і–∞–љ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–і—А–Њ–љ–Є–Љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–Ј–ґ–µ, –≤ 1975 –≥–Њ–і—Г –®–Љ–Є–і—В –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є,
–∞ –У—Г–і–µ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –∞—А–µ–∞–ї –Є–љ –і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–і—А–Њ–љ–Є–Љ–Є–Є —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–µ–є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—Г–і–Њ–≤.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–µ –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –У—Г–і–µ–љ–Њ –Я–£–Ґ–Ш –Ї —А–µ–≤–Є–Ј–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б .
15. –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Х–≤—А–Њ–њ–∞, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –С–Њ—И-–У–Є–Љ–њ–µ—А–∞ (1968), —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–µ–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–µ (–њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ V —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.)
—Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М —П–і—А–Њ —Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ III —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н. (–≤—А–µ–Љ—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є)
–≤—Л—И–ї–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–є (II —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н.) –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–є (I —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.) –≤–µ–Ї –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–Њ–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤, –њ–Њ –С–Њ—И-–У–Є–Љ–њ–µ—А–∞ , —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Ф—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л
["–§—А–∞–Ї–Є–є—Б–Ї–Є–є —Ж–µ–љ—В—А "?],
–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Г—П—Б—М –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–µ –Љ–ї–µ–љ–Є–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є ,
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –†–µ—Б—Б–µ–љ ,
–љ–∞–Ї–Њ–ї—М—З–∞—В–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–∞—П –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–∞ ,–Ъ–Э–Ъ [?],
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Ы–µ–љ–і—М–µ–ї-–Ґ–Є—Б–∞ .
–С–Њ—И-–У–Є–Љ–њ–µ—А–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤, –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є
–Њ—В –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –і–Њ —Н–њ–Њ—Е–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –µ–≥–Њ –Ј–∞–і–∞—З—Г –Є –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ–є —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А,
–њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є—В—М –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≤ –і–Є–∞—Е—А–Њ–љ–Є–Є —Е–Њ—В—П –±—Л –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-–ї–Є–±–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
–Э–µ—В –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—П —Б—А–µ–і–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Њ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ–Ї–∞—Е –≤ V —В—Л—Б. –і–Њ –љ. —Н. —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–і–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ,
–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞—Е –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ [—В.–µ., –≤—Б–µ - –њ—А–Є—И–ї—Л–µ?].
–°–≤—П–Ј—М –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М—П –Є–ї–Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л —Б –і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Є–Љ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є)
–≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–љ–∞ –µ—Й–µ –Є –њ–Њ —В–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–µ, —З—В–Њ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П '–љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є–љ–Є–є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П,
–љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є –Ї–Њ–љ—З–∞—О—В —Б–≤–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞-—Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞,
–љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–≤–∞—П –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л—Е –≤ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤—Л–є –≤–µ–Ї.
–Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П –С–Њ—И-–У–Є–Љ–њ–µ—А–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–∞—Б—М –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ–і–∞–Љ–Є —А–∞–љ–µ–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–∞ –Є–і–µ—О
–Њ –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є,
–∞ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Є–Њ–≤–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –≤—Б–µ —В–Њ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ, —З—В–Њ –С–Њ—И-–У–Є–Љ–њ–µ—А–∞ —Б—З–Є—В–∞–µ—В –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ.
–Ф–µ–Ј–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є—О –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –Я–Њ–і—Г–љ–∞–≤—М—П –Ї III —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н., —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О –њ–Њ –С–Њ—И-–У–Є–Љ–њ–µ—А–∞ , –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤,
–У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б —Б—З–Є—В–∞–µ—В —Б–ї–µ–і–∞–Љ–Є –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Б –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л, —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–Њ–≤—И–µ–≥–Њ –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л.
16. –Я–Њ—З—В–Є —В–∞ –ґ–µ —В–Њ—З–Ї–∞ –Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–∞ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Х–≤—А–Њ–њ—Л —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ —В—А—Г–і–µ
–Ф–µ–≤–Њ—В–Њ (1962),
—Б–Њ—З–µ—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ.
–Ф–µ–≤–Њ—В–Њ, —Б—В–Њ—П –љ–∞ —В–µ—Е –ґ–µ, –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П—Е, —З—В–Њ –Є –С–Њ—И-–У–Є–Љ–њ–µ—А–∞,
–Њ –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Њ—В —Н–њ–Њ—Е–Є –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –і–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞, –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ,
–Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–µ–љ —А–∞–Ј–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—Г–њ–µ–љ—П—Е –µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П.
–Ю–љ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В
1) —Д–∞–Ј—Г –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –≤ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є
–Ъ–Ы–Ы–Ъ ,
–њ—А–Є—З–µ–Љ —Г–ґ–µ –љ–∞ —Н—В–Њ–є —Д–∞–Ј–µ –і–ї—П –њ—А–∞–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞, –њ–Њ –Ф–µ–≤–Њ—В–Њ, —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П –Ї —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є.
2) –§–∞–Ј–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є
–Ш–Њ—А–і–∞–љ–µ–Љ—О–ї—М , –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О.
3) –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є –±–Њ–µ–≤—Л—Е —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–≤ –Є
—И–љ—Г—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї .
4) –Т –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ
–±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ
–≤–µ–Ї–∞ -
—Г–љ–µ—В–Є—Ж–Ї–Њ–є - –Ф–µ–≤–Њ—В–Њ –≤–Є–і–Є—В –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Ї —Н–Ї—Б—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є.
5) –Т
–ї—Г–ґ–Є—Ж–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ
–ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≥–Њ
–≤–µ–Ї–∞ –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —Н—В–∞–њ –≤ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ.
–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ф–µ–≤–Њ—В–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ—Г—О –Є–Љ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А ,
–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —П–Ї–Њ–±—Л –µ—Б—В—М –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞, –Њ—В –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ –і–Њ —Н–њ–Њ—Е–Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞ ,
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ф–µ–≤–Њ—В–Њ –љ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Є —Н—В–Њ –љ–µ –≤ –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—Ж–Є–Є, –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б–≤—П–Ј—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ъ–Ы–Ы–Ъ –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ш–Њ—А–і–∞–љ—Б–Љ—О–ї—М, –Є–ї–Є –Ъ–Ы–Ы–Ъ –Є –Ъ–®–Ъ.
–Э–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ–є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–µ–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є –Ш–Њ—А–і–∞–љ—Б–Љ—О–ї—М –Є –Ъ–®–Ъ.
–С–µ–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ –і–∞–љ–љ–∞—П —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А - –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–±–Њ—А–Ї–∞ –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Ї —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—О –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞.
–С–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б–ї–Њ–≤, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г—О—Й–Є–µ
1) –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ –Є –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ;
2) –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є;
3) –Љ–µ—В–µ–Њ—А–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –Є –Ї–∞–ї–µ–љ–і–∞—А–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г;
4) —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г;
5) —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г —Б–µ–Љ—М–Є, –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤–Њ–µ–љ–љ—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г;
6) —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В, –і–Њ–Љ–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —Д–∞—Г–љ—Г –Є —Д–ї–Њ—А—Г, —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–µ—И–∞–µ—В –Ф–µ–≤–Њ—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є ,
–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–µ—В —А—П–і–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–∞–ї–Є–є (—Б–Љ. –љ–Є–ґ–µ),
–Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ –Њ –њ—А–∞–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є.
–Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –Ъ–Ы–Ы–Ъ - —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј —В–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –њ–µ—А–µ–і–∞–ї–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П
–≤ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–љ—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞—Е.
17. –° –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –С–Њ—И-–У–Є–Љ–њ–µ—А–∞ –Є –Ф–µ–≤–Њ—В–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ъ—А–Њ—Б—Б–ї–∞–∞–і (1967).
–Ю–љ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ-–ї–µ–љ—В–Њ—З–љ–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Т–Є–љ—З–∞, –Ъ—Г–Ї—Г—В–µ–љ–Є-–Ґ—А–Є–њ–Њ–ї—М–µ, –°—В–∞—А—З–µ–≤–Њ-–Ъ–µ—А–µ—И
–љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ, –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї—П–µ–Љ—Л–Љ –Ї –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, —В. –µ. –≤ –љ–Є—Е
1) –љ–µ—В —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є;
2) –љ–µ—В –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞–і –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є–µ–Љ,
–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–Њ —В–∞–Ї—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є —В–∞–Ї–Є–µ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Л,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ - –∞—А–Є–µ–≤, –≥—А–µ–Ї–Њ–≤, —Е–µ—В—В–Њ–≤.
–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ъ—А–Њ—Б—Б–ї–∞–љ–і –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–µ—В –µ—Й–µ –Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –і–Њ–≤–Њ–і—Г: –µ—Б–ї–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—В –љ–µ –Є–Ј –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є,
—В–Њ –њ—А–∞–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Є—Е –≤ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–Љ–µ—В—М –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤,
–∞ –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —А—П–і–∞ —Г—З–µ–љ—Л—Е, –і—А–µ–≤–љ–µ–±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–µ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є–Љ–µ—О—В –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–љ–Є.
–Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Ъ—А–Њ—Б—Б–ї–∞–љ–і —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –љ–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –і—Г–љ–∞–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ .
–Я–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є–Є
–Љ–µ–Ј–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ-–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—Б—В—А–∞—В–∞,
–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –∞–Љ–∞–ї—М–≥–∞–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ–Є.
–Э–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П—Б—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –Њ –ї–Њ–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л, –Ъ—А–Њ—Б—Б–ї–∞–љ–і —Б–Ї–ї–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б
–±–Њ–ї–µ–µ –≥–Є–±–Ї–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Њ–±—Й–µ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤
–Є –њ–∞—Б—В—Г—И–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —З–∞—Б—В–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, —В–Њ—З–љ–µ–µ –Є–љ–і–Њ–Є—А–∞–љ—Ж–µ–≤.
–Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ъ—А–Њ—Б—Б–ї–∞–љ–і —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Г –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –љ–∞–і–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—В—М –Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б,
–љ–Њ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–µ–µ –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Н—В–Њ–≥–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞.
18. –†–∞–є–Њ–љ—Л –Х–≤—А–Њ–њ—Л, —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–µ —Б –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–µ–є, —Б –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б—В–µ–њ—П–Љ–Є –Є —Д–Є–љ–љ–Њ-—Г–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–Њ–Љ,
–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б —А–∞–є–Њ–љ–∞–Љ–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–і—А–Њ–љ–Є–Љ–Є–Є –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ - –Ј–Њ–љ–∞ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Є. –µ. –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л, –њ–Њ –У—Г–і–µ–љ–Њ (1971).
–І—В–Њ–±—Л –љ–∞–є—В–Є —В–∞–Ї—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–ї–∞ –±—Л —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ, —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—И–µ, –У—Г–і–µ–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О, –∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ—Л.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є, –Є –µ. –њ—А–∞–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ–Љ–∞—П —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є , —А–∞—Б—И–Є—А—П—П—Б—М –Є–Ј –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б—В–µ–њ–µ–є –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї
–≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ–Љ —А–Њ–ї–Є —Б–Ї–Њ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —Н–Ї—Б—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ—Л–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, —Г—В—А–∞—З–Є–≤–∞—П –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї–Є—П, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є—В –Ї –њ–∞—Б—В—Г—И–µ—Б—В–≤—Г
(–Є–љ–і–Њ-–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –њ–Њ –У—Г–і–µ–љ–Њ), –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞—П—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і , –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г–Є—В–µ—В –≤ –≤–Є–і–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤
(–∞—А–µ–∞–ї –Ъ–Т–Ъ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б –∞—А–µ–∞–ї–Њ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–і—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є ).
–Я—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≤ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–µ –У—Г–і–µ–љ–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –≤ —А–µ—И–µ–љ–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л,
–Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –У—Г–і–µ–љ–Њ –љ–Њ—Б–Є—В –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –љ–µ –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–∞ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–Љ
–њ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–Љ —Б–≤—П–Ј—П–Љ –Є —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –љ–µ–Њ–ї–Є—В–∞ - —А–∞–љ–љ–µ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ.
–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–µ—В –Њ–±–Њ–±—Й–∞—О—Й–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є , –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞–љ–љ–µ–±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л,
–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ—Б—П—В —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А,
–≤—Б–µ –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ—А–Њ—З–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –і–Њ–Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –≤ V-III —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.,
–±–∞–Ј–Є—А—Г—П—Б—М –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є.
–Т–Њ–ї–љ—Л –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–є –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤-–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤
–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ ¬Ђ–Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ—Г—О –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г¬ї –Ь–∞—А–Є–Є –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б (1956) –Њ –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–µ –Є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–љ–∞—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤.
–Ю–љ–∞ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—В –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Б –Я—А–Є—Г—А–∞–ї—М—П –≤ —Б—В–µ–њ–љ—Г—О –Ј–Њ–љ—Г,
–∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –Ј–∞ –µ–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л, —З—В–Њ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А, —В–∞–Ї–Є—Е, –Ї–∞–Ї
–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –∞–Љ—Д–Њ—А –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–µ,
–Ї–Њ—З–µ–≤—Л—Е –Є–љ–і–Њ-–Є—А–∞–љc–Ї–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ
–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ—В–Њ–≥—А–µ–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 2500 –≥–Њ–і—Г –і–Њ –љ.—Н.
–Ш–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ 4 —Н—В–∞–њ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ї—Г—А–≥–∞–љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є 3 –≤–Њ–ї–љ—Л –µ—С —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П:
Urheimat вАФ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ —Б —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є —А–∞–љ–љ–Є–Љ–Є —Б–ї–µ–і–∞–Љ–Є –Ї–Њ–љ–µ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞
(—Б–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–∞—П –Є —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—В–Њ–≥–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П
–Ї —П–і—А—Г —А–∞–љ–љ–Є—Е –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Њ–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –≤ V —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.
–°–∞–Љ–∞—А—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –Ј–і–µ—Б—М —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л,
–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –≥—А–∞–љ–Є—З–Є–ї–∞ —Б –Ї–Њ–љ–µ–≤–Њ–і—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–≥–Є–і–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–Њ–є (VвАФIII —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.),
–Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Є –љ–∞—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –Њ–і–Њ–Љ–∞—И–љ–Є–≤–∞—В—М –ї–Њ—И–∞–і—М, —В.–Ї. –≤ –њ—А–Є–±–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ (VIвАФV —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.),
–Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –∞–≥–Є–і–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є, –љ–∞–є–і–µ–љ—Л —Б–∞–Љ—Л–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –і–Њ–Љ–∞—И–љ–µ–є –ї–Њ—И–∞–і–Є.
–Я–µ—А–µ–і —Н—В–Є–Љ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ—Б–ї–µ –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ї–Њ–і–∞–љ–Є—П –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ VII –Є VI —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.
–љ–∞ –±—Л–≤—И–µ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –µ–ї—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Э–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М—П [–Ь–∞–≥–Њ–Љ–µ–і–Њ–≤, 1997].
–Ю–љ–∞ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞ —А—П–і—Г –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А вАФ –Т–Њ–ї–≥–∞:
–њ—А–Є–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–є (–љ–Є–ґ–љ–µ–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–є ),
—Б—А–µ–і–љ–µ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є
–Є –і–љ–µ–њ—А–Њ-–і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є .
–Х–ї—И–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ (VII —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.) –Є–Љ–µ–µ—В —Б–∞–Љ—Г—О –і—А–µ–≤–љ—О—О –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї—Г, –њ–Њ—Е–Њ–ґ—Г—О –Ї–∞–Ї –љ–∞ —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї—Г—О, —В–∞–Ї –Є –љ–∞ –∞–Ј–Њ–≤—Б–Ї—Г—О.
–Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, —Н—В–∞ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є–Ј –Я–µ—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є —З–µ—А–µ–Ј –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –Ъ–∞—Б–њ–Є—П.
–Ш—Б—В–Њ–Ї–Є –µ–ї—И–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —В–Њ–ґ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞—В—М —В–∞–Љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –µ—С –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –ї–µ–≤–Њ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –Т–Њ–ї–≥–Є.
[–Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ—В—В—Г–і–∞ –ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Њ –Ї–Њ–љ–µ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ вАФ –≤–µ–і—М —Б–∞–Љ–∞—П –і—А–µ–≤–љ—П—П –њ–Њ—А–Њ–і–∞ –ї–Њ—И–∞–і–µ–є (–∞—Е–∞–ї—В–µ–Ї–Є–љ—Б–Ї–∞—П)
–±—Л–ї–∞ –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ґ—Г—А–Ї–Љ–µ–љ–Є–Є.]
–°—А–µ–і–љ–µ—Б—В–Њ–≥–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ (3800вАФ3300 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.) —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є–Ј –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–љ–Њ–є –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ–і–µ–ї—О
—Б—Г–±–љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–љ–µ–њ—А–Њ-–і–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л (VвАФIII —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н., –Ї—А–Њ–Љ–∞–љ—М–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ —А–∞—Б–µ, —Б –њ–∞—В—А–Є–ї–Є–љ–µ–є–љ–Њ–є –≥–∞–њ–ї–Њ–≥—А—Г–њ–њ–Њ–є
R1a1a ),
—Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —П–Љ–Њ—З–љ–Њ-–≥—А–µ–±–µ–љ—З–∞—В–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є (IVвАФII —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.) –≤ –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є.
I –≤–Њ–ї–љ–∞ (4500вАФ4000 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.), –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–∞—П —Н—В–∞–њ—Г –Ъ—Г—А–≥–∞–љ I вАФ —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є—П —Б –Т–Њ–ї–≥–Є –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А,
–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Ј-–Ј–∞ –≥–Њ—Г—Б–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–љ—Б–≥—А–µ—Б—Б–Є–Є –Ъ–∞—Б–њ–Є—П –Є –Ј–∞—В–Њ–њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞—Б–њ–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Я—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ъ—Г—А–≥–∞–љ I –Є –Ґ—А–Є–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л.
[–Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л –Є –≤–і–Њ–ї—М –Ф—Г–љ–∞—П –љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Т–Є–љ—З–∞ –Є –Ы–µ–љ–і—М–µ–ї –≤ –Т–µ–љ–≥—А–Є–Є.]
–Ш–Ј-–Ј–∞ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—В–Њ–≥–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –љ–∞ –љ–Є–ґ–љ–Є–є –Ф—Г–љ–∞–є –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є
–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –І–µ—А–љ–∞–≤–Њ–і—Н (4000вАФ3200 –≥–Њ–і –і–Њ –љ.—Н.).
–Я—А–Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є —З–µ—А–љ–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –њ–Њ "–∞–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–є —В—А–Њ–њ–µ" (–≤–≤–µ—А—Е –њ–Њ –Ф—Г–љ–∞—О) –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –±–∞–і–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞,
–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –ї–µ–љ–і—М–µ–ї –≤—Л—В–µ—Б–љ—П–µ—В—Б—П –≤ –°–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Є—О, –≥–і–µ –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –Ї—Г–±–Ї–Њ–≤ .
–Ъ—Г—А–≥–∞–љ I-II (4000вАФ3500 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.) вАФ —А–µ–≥–Є–Њ–љ –Ф–љ–µ–њ—А-–Т–Њ–ї–≥–∞.
–Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ –Њ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞, –њ–Њ–і–≥—А—Г–њ–њ—Л –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є —Б–∞–Љ–∞—А—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г
–Є –љ–Є–ґ–љ–µ–≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –°–µ—А–Њ–≥–ї–∞–Ј–Њ–≤–Њ .
–Ъ—Г—А–≥–∞–љ III (3500вАФ3000 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.) вАФ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–µ –Я—А–Є—З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ.
–Т–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –°—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –°—В–Њ–≥–∞ –Є –Љ–∞–є–Ї–Њ–њ—Б–Ї—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ.
–Ъ–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є, —А–∞–љ–љ–Є–µ –і–≤—Г—Е–Ї–Њ–ї—С—Б–љ—Л–µ –њ–Њ–≤–Њ–Ј–Ї–Є, –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—А—Д–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–µ–ї—Л –Є–ї–Є –Є–і–Њ–ї—Л.
II –≤–Њ–ї–љ–∞ (–Њ–Ї. 3500 –≥. –і–Њ –љ.—Н.)
–љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Љ–∞–є–Ї–Њ–њ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –Є –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Ї—Г—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 3000 –≥–Њ–і–∞ –і–Њ –љ.—Н.
(–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —И–∞—А–Њ–≤–Є–і–љ—Л—Е –∞–Љ—Д–Њ—А , –±–∞–і–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ , –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —И–љ—Г—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є ).
–Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –У–Є–Љ–±—Г—В–∞—Б, —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ.
–Ь–∞–є–Ї–Њ–њ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є—П –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г –Ї–µ–Љ–Є-–Њ–±–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л (III —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н.) вАФ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Ъ–Ъ–Ъ .
–Я–Њ –≤—Б–µ–є –≤–Є–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ї —Н—В–Њ–є –≤–Њ–ї–љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–∞—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П –Ъ–Ъ–Ъ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ.
–Ъ—Г—А–≥–∞–љ IV –Є–ї–Є —П–Љ–љ–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ (3000вАФ2500 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.) вАФ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В –≤–µ—Б—М —Б—В–µ–њ–љ–Њ–є —А–µ–≥–Є–Њ–љ –Њ—В —А–µ–Ї–Є –£—А–∞–ї –і–Њ –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є.
III –≤–Њ–ї–љ–∞ (3000вАУ2800 –≥–Њ–і –і–Њ –љ.—Н.) —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б –Ј–∞—Б—Г—Е–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ъ–∞—Б–њ–Є–Є.
–Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —П–Љ–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л —Б—В–µ–њ–Є, —Б –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е –Љ–Њ–≥–Є–ї
–љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є, –С–Њ–ї–≥–∞—А–Є–Є –Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Т–µ–љ–≥—А–Є–Є.
–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ (–Є–ї–Є —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ) —Н—В–Њ–є –≤–Њ–ї–љ—Л, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—В–Њ–≥—А–µ–Ї–∞–Љ–Є
–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Є –≥–Є–±–µ–ї–Є –≤ –њ–Њ–ґ–∞—А–µ —Н–љ–µ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ґ—А–Њ–Є I –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 2500 –≥. –і–Њ –љ.—Н.
–Ъ —Н—В–Є–Љ —В—А—С–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –≤–Њ–ї–љ–∞–Љ —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ VвАФIII —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є–є –і–Њ –љ.—Н.
–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –µ—Й–µ –і–≤–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–ї–љ—Л II —В—Л—Б—П—З–µ–ї–µ—В–Є—П –і–Њ –љ.—Н.:
IV –≤–Њ–ї–љ–∞ (2200вАФ2000 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.) —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ –Ј–∞—Б—Г—Е –љ–∞ –Ъ–∞—Б–њ–Є–Є.
–Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ч–∞–≤–Њ–ї–ґ—М–µ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤ —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–њ–Є –њ—А–Є—И–ї–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤—И–Є–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б—А—Г–±–љ—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г (17-12 –≤–≤. –і–Њ –љ.—Н.).
–Ю–љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В –Т–Њ–ї–≥–Є –і–Њ –Ф—Г–љ–∞—П, –≤—Л—В–µ—Б–љ–Є–≤ –Є–Ј –°—А–µ–і–љ–µ–є –Т–Њ–ї–≥–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ –Ї–∞—В–∞–Ї–Њ–Љ–±–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л
(—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г —Б—А–µ–і–љ–µ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л –≤ XXVвАФXX –≤–≤. –і–Њ –љ. —Н. –Є —Г–ґ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж—Л ).
–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—А—Г–±–љ–Њ–є –Є–ї–Є –Ї–∞—В–∞–Ї–Њ–Љ–±–љ–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Є —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—В–Њ–≥–Њ–≤—Ж–µ–≤ вАФ —Е–µ—В—В–Њ-–ї—Г–≤–Є–є—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л вАФ
–Ј–∞—Б–µ–ї—П—О—В –Ь–∞–ї—Г—О –Р–Ј–Є—О, –≤—В–Њ—А–≥—И–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –С–∞–ї–Ї–∞–љ—Л –Є–ї–Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ—Л–є –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј.
–Ю–њ—П—В—М –≤ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–µ –≥–Є–±–љ–µ—В –Ґ—А–Њ—П II (2000 –≥. –і–Њ –љ.—Н.).
–∞–±–∞—И–µ–≤—Ж—Л [–њ—А–∞–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–µ –Є—А–∞–љ—Ж—Л?] вАФ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ II —В—Л—Б. –і–Њ –љ.—Н. —А–∞—Б—Б–µ–ї–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞—Е
–ї–µ—Б–љ–Њ–є –Є –ї–µ—Б–Њ—Б—В–µ–њ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ—Б—Л –Њ—В –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М–µ–≤ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є –Ф–Њ–љ–∞ –і–Њ –Ґ–Њ–Љ–Є –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є.
–Р–±–∞—И–µ–≤—Ж—Л –Є–Љ–µ–ї–Є –Ї–Њ–ї–µ—Б–љ–Є—Ж—Л . –Ш—Е –≥–ї–Є–љ—П–љ–∞—П –њ–Њ—Б—Г–і–∞ –±—Л–ї–∞ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤–Є–і–љ–Њ–є –Є–ї–Є –±–∞–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л.
–Я–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–±–∞—И–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є–љ–і–Њ–∞—А–Є–є—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і—Л —Г—Е–Њ–і—П—В –љ–∞ —О–≥ –≤ –Я–µ–љ–і–ґ–∞–±,
–∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤—В–Њ—А–≥–∞—О—В—Б—П –≤ –і–Њ–ї–Є–љ—Г –Ш–љ–і–∞, –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤—Л–≤–∞—П –њ—А–Њ—В–Њ–Є–љ–і—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ (XIXвАФXVIII –≤–≤. –і–Њ –љ.—Н.).
–Ь–µ–ґ–і—Г —Н—В–Є–Љ–Є –і–≤—Г–Љ—П –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–є –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ–і –Є—Е –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≥—Г—В–Є–Є (–њ–Њ –≤–µ—А—Б–Є–Є, —В–Њ–ґ–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л),
–ґ–Є–≤—И–Є–µ –≤ –≥–Њ—А–∞—Е –Ч–∞–≥—А–Њ—Б–∞ (–Ш—А–∞–љ), –љ–∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Ј–∞–≤–Њ—С–≤—Л–≤–∞—О—В
–Ь–µ—Б–Њ–њ–Њ—В–∞–Љ–Є—О (2200 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.).
V –≤–Њ–ї–љ–∞ (–Њ–Ї. 1260вАФ1180 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.), –Є–ї–Є –Ї–Њ–ї–ї–∞–њ—Б –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В
—Б —А–µ–Ј–Ї–Њ–є —А–µ–≥—А–µ—Б—Б–Є–µ–є –Ъ–∞—Б–њ–Є—П –≤ —В—Г—А–∞–ї–Є–љ—Б–Ї–Є–є —В—А–∞–љ—Б–≥—А–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і.
–Ъ–Њ–љ–µ—Ж –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≥–Є–±–µ–ї–Є –±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –∞–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Є—Е —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є
–њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ —Б –°–µ–≤–µ—А–љ—Л—Е –С–∞–ї–Ї–∞–љ –љ–∞ —О–≥ –≤ –≠–≥–µ–Є–і—Г –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О.
–Ю—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–µ –±—Л–ї–∞ –≥–Є–±–µ–ї—М –Ґ—А–Њ–Є VII-A (–Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1200 –≥. –і–Њ –љ.—Н.), –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ–∞—П –≤ –∞–љ—В–Є—З–љ–Њ–Љ —Н–њ–Њ—Б–µ –Ї–∞–Ї
"–Ґ—А–Њ—П–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ ".
–С–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–ї–љ—Л –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞ –Я–µ–ї–Њ–њ–Њ–љ–љ–µ—Б –Є –Ъ—А–Є—В –і–Њ—А–Є–є—Ж–µ–≤ ("–і–Њ—А–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є–µ"), –≥–Є–±–µ–ї–Є
–Ь–Є–Ї–µ–љ—Б–Ї–Њ–є –Є
–Ъ—А–Є—В–Њ-–Љ–Є–љ–Њ–є—Б–Ї–Њ–є
—Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, –љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—О –≤ –У—А–µ—Ж–Є–Є "—В—С–Љ–љ—Л—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤" –Є –Ј–∞–±—Л—В–Є—О –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О –≤ –Ь–∞–ї—Г—О –Р–Ј–Є—О —Д—А–Є–≥–Є–є—Ж–µ–≤ –Є –≥–Є–±–µ–ї–Є –•–µ—В—В—Б–Ї–Њ–є –і–µ—А–ґ–∞–≤—Л.
–Ю–±–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤–Њ–ї–љ—Л –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –∞–≤—В–Њ—Е—В–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П ("–љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –Љ–Њ—А—П")
–≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ –°—А–µ–і–Є–Ј–µ–Љ–љ–Њ–Љ–Њ—А—М–µ (—Н—В—А—Г—Б–Ї–Њ–≤ вАФ –≤ –°–µ–≤–µ—А–љ—Г—О –Ш—В–∞–ї–Є—О, —Б–∞—А–і–Њ–≤ вАФ –≤ –°–∞—А–і–Є–љ–Є—О, —Б–Є–Ї—Г–ї–Њ–≤ вАФ –≤ –°–Є—Ж–Є–ї–Є—О,
–≥–∞—А–∞–Љ–∞–љ—В–Њ–≤ вАФ –≤ –Р—Д—А–Є–Ї—Г), –≤ –Я–∞–ї–µ—Б—В–Є–љ—Г (—Д–Є–ї–Є—Б—В–Є–Љ–ї—П–љ–µ) –Є –Є—Е –љ–∞–њ–∞–і–µ–љ–Є—П–Љ –љ–∞ –Х–≥–Є–њ–µ—В –≤ 1243 –Є 1173 –≥–≥. –і–Њ –љ. —Н.
[–У–Є–љ–і–Є–љ, 1996, –°–°. 141-144; –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –Ф—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, 1988, –°. 196].
–Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П–Љ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤
–Ѓ—А–Є–є –Ь–Њ—Б–µ–љ–Ї–Є—Б –≤ –њ—П—В–Њ–є –≥–ї–∞–≤–µ "Four great enigmas: Indo-European, Paleo-Balkan, Pelasgian, and Greek"
—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –і–∞—С—В —Б–≤–Њ–Є —Б—Е–µ–Љ—Л –і–Є–≤–µ—А–≥–µ–љ—Ж–Є–Є –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л
–≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є.
–Ю–љ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О –Њ—З–µ—А—С–і–љ–Њ—Б—В—М –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–≤—Л—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л—Е –≤–µ—В–≤–µ–є –Є–Ј –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–∞:
–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Е–µ—В—В–Њ-–ї—Г–≤–Є–є—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤;
–Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ—Е–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞;
–і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ 3 –≤–µ—В–≤–Є:
–Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є (—Б–ї–∞–≤–Њ-–±–∞–ї—В–Њ-–≥–µ—А–Љ–∞–љ–Њ-–Ї–µ–ї—М—В–Њ-–Є—В–∞–ї–Њ-–≤–µ–љ–µ—В—Б–Ї–Њ–є,
–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є (–Є–љ–і–Њ-–Є—А–∞–љ—Б–Ї–Њ–є)
–Є —О–ґ–љ–Њ–є (–њ–∞–ї–µ–Њ-–±–∞–ї–Ї–∞–љ—Б–Ї–Њ–є) - –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 2 –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –≥—А–µ–Ї–Њ-–∞—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є.
–Я–µ—А–≤–Њ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —В–∞–Ї:
–Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Т–Є–љ—З–∞-–Ґ–Є—Б–∞ /VinƒНa-Tisza =>
–Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Ы–µ–љ–і—М–µ–ї /Lengyel (–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –Є–љ–і–Њ-–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л)
–Ъ—Г–ї—М—В—Г—А–∞ –Я–Њ–ї—М–≥–∞—А /Polg√°r (–≥—А–µ–Ї–Њ-–∞—А–Є–є—Ж—Л) =>
–Я–Њ–ї—М–≥–∞—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Ґ—А–Є–њ–Њ–ї—М–µ => –Ф–µ—А–µ–Є–≤–Ї–∞ => –†–µ–њ–Є–љ—Б–Ї–∞—П / –Я—А–Њ—В–Њ-—П–Љ–љ–∞—П (–Є–љ–і–Њ-–Є—А–∞–љ—Ж—Л);
Bodrogkereszt√Їr (–њ–∞–ї–µ–Њ-–±–∞–ї–Ї–∞–љ—Ж—Л) =>
–С–∞–і–µ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ (–≥—А–µ–Ї–Є); –Ъ—Г—А–Њ-–Р—А–∞–Ї—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ (—З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –∞—А–Љ—П–љ–µ)
–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –Њ —А–∞—Б–њ–∞–і–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–Є –µ—С –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є
–°–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Г –њ–Њ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ.
–†–∞–±–Њ—В—Л –Њ —З–ї–µ–љ–µ–љ–Є–Є –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є
–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –∞—А–µ–∞–ї–∞—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—З–∞–≥–∞—Е —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–∞—П–Ј—Л–Ї–Њ–≤-–њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤.
–Т. –Р. –Ф—Л–±–Њ , –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В (–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞).
–Ф–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ–Њ–µ —З–ї–µ–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ –∞–Ї—Ж–µ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ.
Journal of Language Relationship вАҐ –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–∞ вАҐ 9 (2013) вАҐ Pp.93вАУ108 вАҐ ¬© –Ф—Л–±–Њ –Т. –Р., 2013. [–†—Г—Б.]
–Я–Њ—А—Ж–Є–≥ –Т. –І–ї–µ–љ–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–є –Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ш–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П –њ—А–∞—А–Њ–і–Є–љ–∞ –Є —А–∞—Б—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤: –њ–Њ–ї–≤–µ–Ї–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є.
/ –Я–µ—А. —Б –љ–µ–Љ. –Ь. [–љ–µ–Љ. –Є–Ј–і.: 1954]. - –Ь., 1964. [–µ—Б—В—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ 1960 –≥.?]
–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ–± –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є—П—Е –Є–љ–і–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ
¬© «proto-indo-european.ru », 2012.
–°–∞–є—В–∞ –Ш–≥–Њ—А—П –У–∞—А—И–Є–љ–∞ .
–Ш–≥–Њ—А—М –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–Є—З –У–∞—А—И–Є–љ
(—Б–Љ. —А–µ–Ј—О–Љ–µ –∞—В–Њ—А–∞ ).
–њ–Є—Б—М–Љ–∞
(
–°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –Њ–±–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ 07.03.2024
[an error occurred while processing this directive]